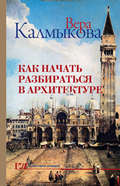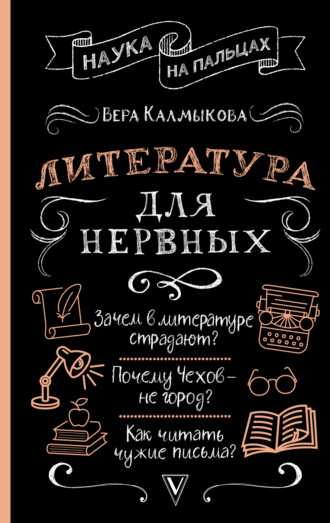
Вера Калмыкова
Литература для нервных
Литературное произведение
– 1) авторское создание в виде художественного текста, несущего художественный смысл; 2) сам текст, который эстетически воспринимается читателем; 3) предмет изучения наук о литературе – литературоведения, филологии.
Смысл литературного произведения – некая предельная точка отсчета «<…> уникальной системы ценностей данного художественного текста» (В. И. Тюпа, «Аналитика художественного»). Он уникален не только потому, что каждый автор – неповторимая личность, или потому, что в тексте слова, отталкиваясь от обычных значений и раскрывая веера своих возможностей, начинают обозначать больше, чем, казалось бы, могут. В настоящем искусстве всегда есть что-то невыразимое, остающееся на уровне ощущения, и «сочетания слов» помогают это хотя бы почувствовать, уловить. Иногда удается и сформулировать, и тогда читатель получает новое знание о мире. Парадокс: литературное произведение не сводится ни к одному из своих смыслов – и вместе с тем от них неотделимо. Текст – внешняя сторона произведения, смысл – внутренняя.
У литературного произведения обязательно есть автор (неважно, что иногда его имя неизвестно). Оно имеет начало и конец, т. е. границы, что важно для его интерпретации. Оно оригинально: к самому автору пришел замысел, автор разработал сюжет, композицию, образы главных и второстепенных героев и др. Однако возможен элемент подражательности, отсылка или диалог с другим произведением (см. Историко-литературный процесс; Аллюзия; Реминисценция; Цитата). Очень часто бывает так, что авторы заимствуют друг у друга сюжеты, образы, мотивы, самостоятельно развивая их. Это ни в коем случае не плагиат, но перекличка, своего рода разговор художественных произведений.
Главное отличие литературного произведения от других видов письменной речи (учебник, философский трактат, журналистская статья и др.) – его художественность. Художественность возникает тогда, когда слово или высказывание начинает означать больше, чем словарное, буквальное значение. Под высказыванием может пониматься как отдельная фраза, так и все произведение как целое: то, что автор хотел сказать, можно понять, лишь ознакомившись с произведением от начала и до конца.
Литературное произведение проходит стадии от замысла до воплощения в окончательный текст и публикации, т. е. выхода к читателю. В русской литературе XX века была распространена ситуация, когда написанное по идеологическим соображениям не публиковалось, оставаясь ждать своего часа в архиве автора, или публиковалось за границей, или выходило, но не полностью, с серьезным цензурным вмешательством. К таким сочинениям относится роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», который к тому же и не был дописан автором. Поэтому не существует окончательного варианта текста и в изданиях наблюдаются существенные разночтения.
Автор
– сложное и многозначное понятие, употребляется в значениях: создатель текста, реальный человек, носитель мировоззрения, рассказчик, повествователь и др.
Наиболее последовательным и непротиворечивым выглядит концепция Бориса Ошеровича Кормана в исследовании «Изучение текста художественного произведения».
1) Реально существовавший или существующий человек, у которого есть биография. Созданное произведение, конечно, – один из ее фактов. Пример (из статьи Риты Джулиани «Гоголь – Гете – Рим, или треугольник с арабесками»):
Гоголь прибыл в Рим 25 марта 1837 г. – и <…> остановился в пансионе, где обитали главным образом художники, на Виа Сан-Изидоро, 17. В это время Рим, потесненный со своих позиций Парижем, уже не был средоточием европейского искусства, но по-прежнему оставался притягательной целью для паломников, совершающих романтичное или образовательное путешествие. Гоголю было 28 лет; пробыв в Риме три месяца (до 24–25 июня), он вернулся в Вечный город в ноябре и нанял квартиру на Виа Феличе, 126, – в этот дом он возвращался неоднократно. Его второе пребывание в Риме продлилось около 8 месяцев, до июля 1838 г.
Ошибочно думать, будто, изучив биографию автора, мы всё поймем о его произведениях. Во-первых, автор, как и любой человек, бережет свою личность от внешних посягательств: каждый из нас охраняет свои границы и не впускает туда посторонних. Во-вторых, автор и сам далеко не всегда понимает всю глубину смыслов, которые возникают в его произведении: так работает иррациональная сила искусства. И в этом смысле автор – один из интерпретаторов, такой же, как любой читатель.
2) Носитель мировоззрения, которое так или иначе проявляется в произведении. Возьмем отрывок из «Войны и мира» (т. 2, ч. 3, I):
В 1809‐м году близость двух властелинов мира, как называли Наполеона и Александра, дошла до того, что когда Наполеон объявил в этом году войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу, Бонапарту, против прежнего союзника, австрийского императора, до того, что в высшем свете говорили о возможности брака между Наполеоном и одной из сестер императора Александра. Но, кроме внешних политических соображений, в это время внимание русского общества с особенной живостью обращено было на внутренние преобразования, которые были производимы в это время во всех частях государственного управления.
Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте и вне всех возможных преобразований.
Как известно, Лев Толстой не верил, что отдельный человек может сыграть значительную роль в истории: он может либо ощущать общую направленность мировой воли и следовать ей, либо не ощущать, и тогда он обречен, как Наполеон. «Настоящая жизнь» для этого писателя независима от решений политических и социальных деятелей.
Как синоним «мировоззрения» используется выражение «точка зрения». Можно сказать так: с точки зрения Толстого, отдельная личность не играет значительной роли в истории. Но при этом в произведении авторский взгляд может исходить из некоторой мыслимой пространственной, физической точки, откуда увидено происходящее. В «Слове о полку Игореве» автор как бы летит над Русью, оглядывая сверху ее просторы, чтобы показать, насколько она огромна и прекрасна, как хорошо здесь можно и нужно жить в мире, без княжеских усобиц. Тот же прием использовал и Лев Толстой, показывая сражение под Аустерлицем. Мысленное местоположение автора-повествователя – важный фактор, и читателю стоит задуматься, откуда он видит то, что в произведении показано. Физическая авторская точка зрения может меняться, это очевидно: тот же Толстой то смотрит вместе с князем Андреем на дуб, то присутствует в комнатах рядом с Наташей Ростовой.
Посмотрим, как поступает другой автор. В самом начале новеллы Ивана Алексеевича Бунина «Легкое дыхание» точка зрения изменяется незаметно. «На кладбище над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий» – мы стоим напротив могилы и видим крест целиком. «Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья…» – мы словно приподнимаемся над землей, видим значительный фрагмент пространства. «…и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста» – снова приближаемся. «В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне – фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами» – подошли к кресту ближе, рассматриваем портрет.
Это точка зрения автора-повествователя. Вместе с ним и мы оказываемся то ближе, то дальше. Видим панораму кладбища, причем только ее, и на секунду кажется, что оно занимает весь мир. Видим портрет, причем нам не сказано: «это могила Оли Мещерской», говорится – «Это Оля Мещерская», как если бы речь шла о живой девушке.
К могиле в конце новеллы приходит классная дама Оли, старая дева, «давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь». «Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской?» Ее физическая точка зрения – напротив дубового креста на скамейке, мировоззренческая – смерть окончательна и ужасна. Однако в какой-то момент классная дама вспоминает разговор о легком дыхании, что делает ее внутренне счастливой, ибо в душе она вместе с автором знает: «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре». Так положение наблюдателя (здесь их два: автор и героиня) в пространстве позволяет сформулировать художественную идею Бунина о неуничтожимости жизни.
Мы увидели, как непроста точка зрения героя. Но и мировоззренческая точка зрения автора не остается одной и той же – и не в том смысле, что писатель изменяет своим взглядам. Он может принимать позицию своего героя, вмешиваться в его картину мира или предлагать читателю самому разобраться, что к чему. Например, кому в «Капитанской дочке» принадлежат слова: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»? Неужели Петру Гриневу, которому ко времени подавления Пугачевского бунта едва ли 19 лет? Конечно, в те времена взрослели быстрее, но все же и тогда возраст мужчины, как отмечал Лотман, начинался примерно с двадцати трех. Скорее тут звучит голос автора, который в романе (или повести, см. Жанр) здесь слышится впервые (второй раз – в самом конце, когда объясняется история записок Петра Андреевича Гринева, литературной маски).
Другой пример – образ Свидригайлова из «Преступления и наказания» Федора Михайловича Достоевского. Кто перед нами: злодей или жертва обстоятельств? Мы точно знаем только об одном отвратительном поступке героя – попытке совращения и изнасилования Авдотьи Романовны Раскольниковой. Обо всех остальных его злодеяниях мы узнаем при обстоятельствах, которые оставляют сомнения, – например, о них рассказывает Лужин. Вот как Свидригайлов объясняет гибель жены:
– Марфу-то Петровну вы тоже, говорят, уходили? – грубо перебил Раскольников.
– А вы и об этом слышали? Как, впрочем, не слыхать… Ну, насчет этого вашего вопроса, право, не знаю, как вам сказать, хотя моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. То есть не подумайте, чтоб я опасался чего-нибудь там этакого: все это произведено было в совершенном порядке и в полной точности: медицинское следствие обнаружило апоплексию, происшедшую от купания сейчас после плотного обеда, с выпитою чуть не бутылкой вина, да и ничего другого и обнаружить оно не могло…
Достоевский не пожалел для этого образа негативных черт, намеренно сформировав у читателя отрицательную человеческую реакцию. Но самоубийца Свидригайлов перед смертью материально обеспечил детей Катерины Ивановны Мармеладовой… Где же какая-нибудь «диалектика души», где в тексте хоть какие-нибудь следы нравственного перерождения героя? Их нет. Но по совокупности обстоятельств наша эстетическая реакция на этого странного героя будет другой, как минимум – неоднозначной.
3) Повествователь в эпосе и форма авторского присутствия в лирике (не путать с лирическим героем!). В этом смысле мы говорим о Льве Толстом или Тургеневе как авторах «Войны и мира» и «Отцов и детей» – это простые примеры. Сложнее с автором в «Герое нашего времени» Лермонтова. Понятно, что все произведение написано им, но часть текста подана как путевые записки безымянного офицера, а другая – как «журнал» (дневник) главного героя, Печорина. Получается, что они – тоже «авторы», но на самом деле перед нами рассказчики, литературные маски, художественные образы, выведенные Лермонтовым. Сам же он появляется в романе единственный раз, в предисловии, где скорее в публицистическом, чем в художественном стиле излагает свое мнение о том явлении, которое обозначил в заглавии.
Форма авторского присутствия в лирике вызвана либо желанием прямо высказаться (чаще всего в гражданской поэзии), либо рефлексией творческого, поэтического труда. Стихотворение Пушкина «Мирская власть» (1836) напрямую связано с желанием поэта обличить социальную ложь, которой окружены христианские ценности.
К чему, скажите мне, хранительная стража?
Или распятие казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей?
Иль мните важности придать царю царей?
А стихотворение Марины Ивановны Цветаевой «И не спасут ни стансы, ни созвездья…» (1920; по инци́питу), как и многие у этого поэта, отражает внутреннее состояние ее самой и не ориентировано на передачу картины мира – поэтому не стоит говорить здесь о лирической героине:
И не спасут ни стансы, ни созвездья.
А это называется – возмездье
За то, что каждый раз,
Стан разгибая над строкой упорной,
Искала я над лбом своим просторным
Звезд только, а не глаз.
4) Автор как художественный образ, автор-герой. Хрестоматийный пример – в пушкинском «Евгении Онегине». Важно помнить, что даже если писатель использует в произведении факты собственной биографии, в той или иной степени адаптируя их, первое и четвертое значение никогда не совпадают.
5) Автор как создатель художественного произведения. Пожалуй, самый простой случай. Что писатель сделал для того, чтобы его произведение привлекало читателя? Как он построил композицию, какие использовал художественные приемы и средства?
Очень важно не смешивать отдельные значения понятия, и Корман это подчеркнул: «Автор как некий взгляд на действительность, выражением которого является все произведение; автор – повествователь; автор как особая форма выражения авторского сознания в лирике, отличная от лирического героя, – все это явления различные, но родственные, ибо все они представляют собой художественные образы, что принципиально отличает их от автора биографического, который является не художественным образом, а живым, реальным человеком. Между тем смешение их встречается особенно часто. На реального, исторически существовавшего писателя переносятся эпизоды биографии и черты душевного строя созданного им художественного образа. И наоборот, говоря о художественном образе, на него распространяют факты жизни и индивидуальные особенности внутреннего мира автора биографического».
Бывает, что имя создателя затерялось в веках (мы так и не знаем, кто написал англосаксонскую эпическую поэму «Беовульф» VII–VIII века или «Слово о полку Игореве»). В таком случае говорится об анонимном авторе. Авторов может быть несколько (например, в соавторстве работали братья Аркадий и Борис Стругацкие, чьи произведения – в ряду интереснейших литературных созданий XX века).
Авторский комментарий
– внесюжетное замечание, информация, переданная автором читателю напрямую в виде примечаний, вводных замечаний или тематических отступлений в тексте.
Авторский комментарий очень любил Пушкин. Таково его знаменитое: «(Читатель ждет уж рифмы розы; // На, вот возьми ее скорей!)» Или такой текст примечания 13: «Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами» (оба примера из романа в стихах «Евгений Онегин»).
Пафос
– воодушевление, основная эмоция, с которым автор передает читателю то, о чем и как хотел рассказать в произведении.
«Авторский пафос направлен на развенчание…», «Произведение проникнуто (определенным) пафосом». Это оценка того, что автор изображает в произведении, с позиций художественной идеи. Благодаря авторской эмоции и осуществляется диалог с читателем – хотя самого автора может уже несколько столетий не быть в живых. Виды пафоса: эпико-драматический, героический, гражданский, мистический, жизнеутверждающий, драматический, трагический, сентиментальный, сатирический, романтический и др.
Поэзия и проза
– две основные формы бытования художественной литературы. В типичных проявлениях – противоположные виды художественной речи, отличающиеся прежде всего способом организации и графикой текста.
В поэзии речь делится на отдельные строки-стихи (отсюда «стихосложение», т. е. складывание, слагание), и всякий раз, продолжая читать текст, мы как бы возвращаемся обратно, в то же место, где начиналась предыдущая строка (по латыни versus – возвращающийся к началу, отсюда версификация – стихосложение). Ритмическая организация текста также воспроизводится – «возвращается». Отдельные стихи связаны не только ритмом, но и образующим его метром (стихотворным размером), рифмой, а еще – «теснотой стихового ряда» (Тынянов). Мы не можем употребить в стихотворении любое слово, которое кажется подходящим, допустим, по смыслу, если оно не отвечает художественному строю целого. Если мы выбрали какой-то из принципов рифмовки, значит, должны его выдерживать, и так со всеми критериями поэтического текста. Здесь и там получается, что какое-то слово в строку не лезет, и вот тогда мы много и тщательно работаем со стихотворением. Каждое лишнее или неточное слово безжалостно вымарывается автором. Основная задача поэзии – передать читателю ощущение целостности художественного образа, на что и работает ее специфика как искусства.
Проза – не только создание художественного образа, но и в большей мере, чем поэзия, – передача информации. Другое дело, что и эта информация тоже подается художественно, для чего используются, в частности, риторические стратегии (описание, повествование, рассуждение, монолог, диалог), обычные художественные приемы и средства. Но автор-прозаик в меньшей степени скован рамками организации текста (метр, ритм, рифма, строфа). Здесь нет обязательной возвратности, хотя ритм в художественной прозе тоже желателен. Однако он, как и сам текст, непредсказуем и формируется по мере движения, идущего линейно и ограниченного лишь естественными размерами печатной страницы.
Если в поэзии предложение разрывается, переходит на следующий стих или начинается в середине и границы его не обязательно совпадают с границами стиха (могут и совпадать), то в прозе такой особенности нет. Текст разворачивается постепенно, вбирая в себя новые периоды, слова различных персонажей с их речевыми характеристиками, связями между ними и голосом автора – вот откуда речевое разнообразие одного и того же текста. Иногда ритмические модели повторяются, если этого требует природа произведения в целом.
Происхождение поэзии и прозы великий русский филолог Александр Николаевич Веселовский (1838–1906), один из основателей современной науки о литературе, связывал с тем, что «иное пелось, другое сказывалось». Современному читателю будет интересно узнать, что очень долго, буквально до XIX века, искусством считалась только поэзия! В ней изображался – собственно, так происходит и сейчас, – идеальный мир человеческих переживаний, которые надо понимать, конечно, очень широко (см. Лирика). Исключения бывают, но, как правило, это лишь подобия поэзии.
Веками за прозой закреплялась задача изображать мир действительности. Его преображение стало художественной задачей начиная с эпохи романтизма. Но даже Александр Афанасиевич Потебня (1835–1891), еще один русский филолог, чьи изыскания стали основой нашего понимания художественного слова, писал: «Когда возникает проза? Проза для нас есть прямая речь не в смысле первообразности и несложности, а лишь в смысле речи, имеющей в виду <…> только практические цели или служащей выражением науки. Прозаичны – слово, означающее нечто непосредственно, без представления, и речь, в целом не дающая образа, хотя бы отдельные слова и выражения, в нее входящие, были образны». Всего сто с небольшим лет прошло, а как изменилась литературная ситуация!
Снова обратимся к Потебне: «Мы можем видеть поэзию во всяком словесном произведении, где определенность образа порождает текучесть значения, то есть настроение за немногими чертами образа, и при посредстве их видеть многое в них не заключенное, где даже без умысла автора или наперекор ему появляется иносказание».
Как ни странно, истоки формирования прозы – в стихотворном эпосе, начиная с шумерских сказаний о Гильгамеше, древнеиндийских «Махабхараты» и «Рамаяны», персидского «Шахнаме», «Одиссеи» и «Илиады» Гомера, «Энеиды» Вергилия, финской «Калевалы», немецкой «Песни о Нибелунгах», французской «Песни о Роланде», киргизского «Манаса»… Чем более развитой становилась словесность, чем теснее оказывались эпические рамки, тем большего хотели достичь авторы новых поколений. Небывалого соотношения прозаического и поэтического начал добился, конечно, Пушкин в «Евгении Онегине» (см. Жанр).
Есть, конечно, еще одно коренное отличие поэзии от прозы – это строй речи. В «Осени» (1933) Пушкин не без иронии писал: «Легко и радостно играет в сердце кровь, // Желания кипят – я снова счастлив, молод, // Я снова жизни полн – таков мой организм // (Извольте мне простить ненужный прозаизм)». Конечно, поэт намеренно перешел с возвышенного на «прозаический», бытовой тон. Права Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда…» («Мне ни к чему одические рати…», 1940). Она же дает и ключ к пониманию: «По мне, в стихах все быть должно некстати, // Не так, как у людей». Некстати, не как у людей – то же самое, что «деавтоматизация» или «остранение» у Шкловского…
Поэтическое произведение вовсе не обязано быть лирическим, оно может быть и эпическим. А лиризм, лирическое как категория может присутствовать далеко не только в стихах. Например, лирическим пафосом проникнуто описание могилы Базарова в «Отцах и детях» Тургенева.
В литературе встречаются синтетические формы, объединяющие поэзию и прозу. Это различные стихотворения или поэмы в прозе, первым в нашу литературу их привнес Тургенев, а распространение они получили ранее во французской словесности. Поэтическое начало в прозу активно внедрял в эпоху Серебряного века Андрей Белый. Очень значителен по объему корпус произведений подобного рода в творчестве Неола (Николая Михайловича) Рудина (1891–1978), чья книга «Гул Москвы» только в 2022 г. пришла наконец к читателю.
Сегодня все чаще поэты записывают свои произведения без деления на стихи, хотя с соблюдением метра и рифмы. Делается это для того, чтобы удостоверить реальность лирического события, его близость к жизненным обстоятельствам. Линейное прочтение исключает микропаузы, естественно возникающие при переходе от строки к строке, стихотворная речь отчасти утрачивает качество «сделанности». Так поступает, например, поэт Алексей Ивантер. Поэтичность от этого не убывает: если стихи написаны мастерски, форма записи на качество не влияет.
В ряде случаев переходной формой между поэзией и прозой считают верлибр – свободный стих, лишенный метра и рифмы, но записанный нелинейно. Однако все же верлибр относится к области поэзии. Если мы вспомним, что поэзия первоначально ориентировалась на устное исполнение, а не на чтение глазами про себя, и внимательно посмотрим на любой верлибр, то увидим, насколько важны деления на строки и микропаузы при чтении между отдельными стихами. Структура свободного стиха – чисто поэтическая, это деление на стихи, а не на предложения.