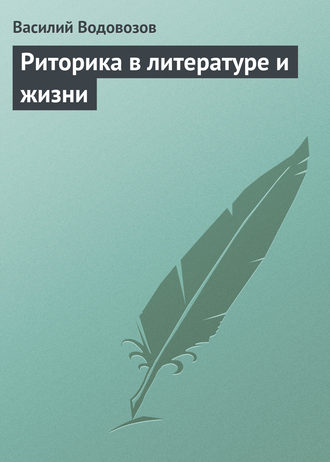
Василий Водовозов
Риторика в литературе и жизни
Луна! зачем на небосклон
Выходишь ты ночной порою.
Зачем, когда нам нужен сон,
Своею манишь ты красою?
Утомленный, но довольный собою, возвращается он в постель и засыпает в подобных же грезах. Так пропадали лучшие годы жизни в жалком бездействии, в бесполезных тревогах!
Мечта о дружбе составляет первую заботу задумчивого юноши: он ухаживает за тем или другим из школьных товарищей, большею частью делая самый неудачный выбор. Товарищ пользуется его услужливостью, наваливает ему всякую работу, иногда кокетничает с ним, или помыкает им, как собачкой. Он уже плачется на измену людскую, на непостоянство. Но вот, наконец, удалось ему найти настоящего друга, подобного себе мечтателя. Их кровати стоят рядом в казенной спальне. «Митя! ты не спишь еще?» – шепотом спрашивает юноша, когда уже все затихло кругом, и нежно трогает своего соседа. Тот раскрыл глаза, протянул к нему руку и опять забылся. Оба около часу так лежат в полусне, рука в руку. «Скажи, о чем ты думал, Митя?» – снова спрашивает юноша. – «Что я думал, – говорит тот, встрепенувшись, – я все мечтал – как мы вечно, вечно будем жить вместе, будем презирать весь свет и только любить друг друга…». – «Митя! – восклицает юноша, торопливо подымаясь с места и садясь на кровать к соседу: – поклянись, что ты мне не изменишь, что ты больше никого на свете не полюбишь… мы назначены друг другу… представь, я думал то же, что ты сказал сейчас!» – «Никого, никого на свете, кроме тебя», – и оба юноши, дрожа и краснея, прильнули друг к другу. Но это слишком напряженное чувство, это крайнее раздражение нерв уже указывало на иную потребность: мечты о дружбе легко сменялись романтическими грезами о неземной деве, а в этих грезах было гораздо больше существенного. Юноша все с новою жадностью читал романы, где по известному образцу Карамзина набожная героиня крестится «белою, атласною, до нежного локтя обнаженною рукою», где «целомудренные любовники обнимаются» и с добродетельною девушкой случаются такие пассажи, при которых «скромная Муза закрывает белым платком лицо свое». Воображение, распаленное через меру, нередко доводит бедного юношу до того тайного порока, за который в школах в старину надевали на ночь толстые, кожаные рукавицы на руки; тут нередко и чистые отношения дружбы кончались не совсем похвально: смотришь, оба приятеля ходят бледные, с мутными, впалыми глазами, расслабив надолго свои способности и здоровье. Впрочем, стыд удерживает более робких романтиков от таких крайностей: к этому способнее представители буйного романтизма.
Итак, с запасом одних бесплодных мечтаний, с умом, лишенным всякой стойкости, равно готовым увлекаться идеями Байрона и Шиллера, Жорж Занда и Поль де'Кока, задумчивый юноша вступает в жизнь. Каковы бы ни были эти идеи, их применение одинаково эгоистично и нелепо в мелкой деятельности, которую он создает себе. Всякое живое дело: труд, усилие, борьба – для него противны; его неразвившиеся мускулы не вынесут никакой ноши. Он вечно страдает своим одиночеством, своим жалким отчуждением от света; подобно Лермонтову, в толпе людей он только ищет своего розового виденья; но у него нет ни малейшей энергии бросить им в глаза облитое горечью слово. Маленьким деспотом он является только в кругу семьи, если родные его балуют; перед всякою силою он робок и безответен. Сначала довольствуясь идеальною дружбою, он теперь жаждет идеальной любви – и в этом вся цель его жизни. К сожалению, подобного рода романтики мало имеют успеха между прекрасным полом: женщина редко прощает неловкость в деле любви. Он, однако, избирает свою Дульцинею. Праздность и скука, соединенные с романтическими бреднями, иной раз заставляют какую-нибудь Ольгу, отыскивающую своего Штольца, на время им увлечься. Она не вызывает его на общественную деятельность, о которой и сама не имеет понятия, но порой доверяет ему свои тайны, состоящие в каких-нибудь цветочках и в камешках, собранных во время приятной прогулки, в письмах подруг, где говорится о неведомых свету муках сердца, в недовольстве маменькою, которая по обыкновению думает об одном: как бы выгодно сбыть с рук свое ненаглядное детище. Вследствие совокупного чтения романов и долгого сидения по вечерам, она, наконец, даже дарит какой-нибудь сувенир юноше, и вот, не спав целую ночь, он разражается к ней письмом (сказать изустно он ничего не посмеет): «Чистое, великодушное сердце! Вы одни меня поняли: во мне нет довольно слез, чтобы благодарить вас; но в этих слезах перелилась вся душа моя, страданья и радости всей моей жизни. Вы – мой идеал, вы моя надежда! Виноват ли я в том, что люблю вас? Кто осудит тоску мою? Я страдаю за себя и за вас: вы и я для меня одно и то же. Но что значит мое страданье перед радостью понимать вас и быть понятым вами? Мне кажется потерянною каждая минута, в которую я не говорю и не доказываю, сколько люблю вас. Мне нужно жить и действовать под знаменем этого чувства». Молодое сердце влюбленного на самом деле пылает великодушием; живое сближение с живым существом в первый раз внушает ему мысль о какой-то деятельности; но, увы! даже в таком близком его сердцу обстоятельстве, как любовь, он не в состоянии ни на что решиться. С другой стороны, дева напугана его страстными речами, она сильно опасается скандала, и спешит под крылышко маменьки. Подобные истории имеют жалкое, порою очень трагическое окончание. Характер Руд иных тут объясняется очень просто: расслабленные воспитанием, они не умеют действовать; они постоянно доходят до своего Рубикона и возвращаются назад, как человек, который в первый раз пошел купаться: сунет ногу в воду и опять ее выдернет. Но эта нерешительность прикрывается гамлетовской борьбою за идею. Сколько мы знаем, наши Гамлеты слишком боятся всякой силы, хотя бы она выразилась в искреннем чувстве неопытной девушки, – всякого отпора, хотя бы им приходилось бороться с выжившей из ума старухой.







