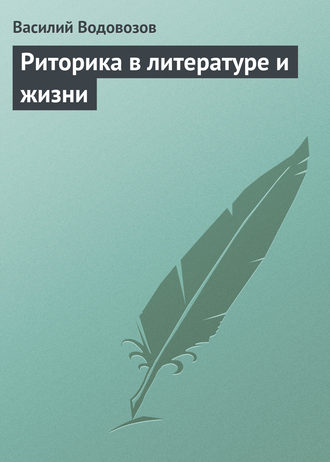
Василий Водовозов
Риторика в литературе и жизни
Не перлы перские на вас,
И не бразильски звезды ясны;
Для возлюбивших правды глас
Лишь добродетели прекрасны…
Так поет Державин, равнодушный в стихах ко всяким перлам. Предупреждая всех последующих патриотов, он очень живо объясняет Европе назначение Росса:
Росс рожден судьбою
От варварских хранить вас уз,
Темиров попирать ногою,
Блюсть наших от Омаров Муз,
Отмстить крестовые походы.
Очистить иордански воды,
Священный гроб освободить,
Афинам возвратить Афину,
Град Константинов Константину
И мир Афету водворить.
И тут же Державин восхваляет сладости мира, доказывая, что война удивляет только чернь, а мудрый любит тишину.
Державин был полным выражением своего времени: широкая удаль тогдашних магнатов дошла до той гиперболы в жизни, какую находим в стихах его. Но, читая его автобиографию, мы в то же время узнаем, как добродушно и наивно смотрел он на свою поэзию, на все эти гражданские порывы. Например, добиваясь места, он усердно ходил к Зубову, но лакеи отказывали. «Таким образом, ходя несколько, – говорит сам Державин, – не мог удостоиться ни одного раза застать его у себя. Не осталось другого средства, как прибегнуть к своему таланту. Вследствие чего написал оду „Изображение Фелицы“» и проч. Что же это за талант, который так охарактеризован самим автором? Здесь, конечно, риторика доходит до творчества, до полного уменья, соображаясь с обстоятельствами, высказывать то, что более всего послужит к собственной пользе. Но Державин, по своему пылкому нраву, умел пользоваться только вдохновением минуты. Он растрогал до слез своего строптивого начальника, Панина, снискал его расположение и тут же разгневал его, сказав, что едет к другому начальнику, Потемкину. Вместе с практическим, разнообразным применением риторики к жизни, исчез ее возвышенный лиризм, ее увлекательный пафос; но взамен того она приобрела эпическое спокойствие, с которым мирно потекла по всем струям общества, проникла в его кровь, переварилась, так сказать, в его желудке. Тогда стали создаваться цельные люди, которые уже не увлекались какими-нибудь вспышками преувеличенного чувства, а говорили и действовали от начала до конца плавно, ровно, как Павел Иванович Чичиков.
В искусстве риторика была холодным резонерством или пустою игрушкою, вымыслом, при котором творческую фантазию втесняли в кодекс правил, заменяли тронами и фигурами, приготовленными на всевозможные случаи: чувства, страсти, идеи – тут все было игрушечно. Под покровительством этих правил плодились сотни пиитов, занимавшихся поэзией, как рукоделием, и выставляли на показ свои работы, в которых сплетали на новые лады все одни и те же узоры. Тут, с одной стороны, свыше всякой меры развивалась литературная чопорность и самодовольство, с другой – полное презрение к искусству. Меценаты возили за собою пиитов, как домашнюю прислугу, заставляя писать стихи на обед, на выздоровление супруги, на свою собачку, а рифмоплеты, подобные Сумарокову, без малейшего сомнения в своем авторитете, говорили: «Вольтер и я». В жизни риторика сделалась легким средством к обману, в воспитании – орудием лжи, которая рано развращала сердце юноши. В школах тогда упражнялись в приготовлении речей и стихов на торжественные случаи, в дому такие речи и стихи заставляли детей приготовлять к возвращению папеньки из поездки, к именинам маменьки. Из моего собственного школьного ученья мне еще остались памятны те впечатления, которые производят на нервы все эти декламации и риторические шумихи. У нас, в училище, как-то ждали посетителя; мы об нем только и знали, что он довольно значительное лицо, а его качества и отношения к училищу, даже его фамилия, не были никому хорошенько известны. В большой зале нас выстроили в длинные ряды; мы стояли битый час в неясном волнении, как будто ожидая сошествия на землю самого бога Вишну, и изредка шепотом переговаривались друг с другом: нас потешала только боязливая суета наших гувернеров, несмотря на то что и сами мы чувствовали какой-то неопределенный страх. «Идет! идет!» – наконец разнеслось по залу, и посреди мертвой тишины послышался в дверях хриплый голос старичка с высоко взбитым хохлом седых волос над плешивым лбом и со звездою на фраке. «Здравия желаем, ваше п-во!» – прокричали мы по заученному темпу, в котором наперед долго упражнялись. Старичок остановился, посмотрел на нас несколько пасмурно, что-то пробормотал сопровождавшему его начальству, которое с обеих сторон забегало к нему, вытянув руки по швам и выставляя вперед свою послушливую голову; потом он двинулся на середину залы, снова остановился и начал в лорнет оглядывать наши ряды. Мы с непонятным чувством тупого страха и ожидания смотрели, вытараща глаза, на эту особу. Ведь сколько перед тем было приготовлений, тревог! Уже прошло обеденное время, а нас еще морили голодом; но в эту минуту все другие чувства замерли. Воцарилась такая тишина, что мы слышали собственное дыхание и старались его сдерживать. «Что-то будет!» – каждый думал сам с собою. Вдруг один из наших товарищей выступает вперед из рядов, в то самое время как посетитель обратил лорнет в его сторону. У нас даже захолонуло на сердце. «Ваше п-во!» – говорит наш герой дрожащим, но звучным голосом. Старичок даже слегка вздрогнул, опустил свой лорнет и поднял нос, как будто желая узнать, чем это пахнет. «Ваше п-во! – повторил юноша, уже чуть не задыхаясь от волнения, – как выразить ту благодарность, то счастие, тот восторг, какой ощущают наши юные сердца в эту торжественную минуту! Ваше п-во осчастливили наш мирный приют своим посещением, и его стены огласились одним дружным приветом вам из двухсот грудей, исполненных одной мысли, одного желания, одного чувства! Да! Одни только слезы…». Оратор был в таком напряженном состоянии, что не мог более выдержать и на самом деле зарыдал; посетитель вынул платок и начал сморкаться; начальство засуетилось; мы же стояли ни живы ни мертвы; у одних тоже навернулись на глазах слезы; другие же глядели так болезненно, как будто их сейчас высекли. Но оратор уже успел оправиться и продолжал: «Карамзин говорит, что счастливейшее время жизни есть зрелый возраст (оратор из Карамзина только и знал одну статью: „О счастливейшем времени жизни“, помещенную в хрестоматии и прочитанную учителем словесности в классе); но и юность не менее прекрасна. Юность! Что может сравниться с ее чудными мечтами! Юность! Как горит душа под ея светлыми лучами! Юность! Да! Юность может чувствовать глубоко, бесконечно, беспредельно – и вся эта юность (оратор указал рукою на нас; мы снова вздрогнули от страху) теперь приветствует вас, как своего отца, своим чистым, детским восторгом!»







