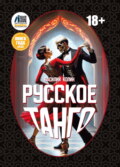Василий Колин
Квадратный треугольник
Под стук вагонных колес да под водочку в искрящихся рюмках, налитую из морозного графинчика, ехать можно куда угодно. Хоть на край света.
– Где служишь, товарищ майор? – спросил Ивана Петровича сидевший слева пассажир, по виду то ли инженер, то ли недобитая контра.
– Да… – неопределённо выразился Ягго, – ничего интересного, а нагрузка большая.
Остальные сочувственно закивали: что же, понимаем, как-никак сами служили, а кое-кто и на фронтах отметился.
– А вот скажи, майор, – не унимался подвыпивший сосед, – за что всё-таки в пятьдесят первом арестовали Абакумова? Неужели и он, подлюка, под нашего Сталина копал? Мы с его именем войну выиграли, так нет, находятся гады, которым и это не нравится! Так, что ли, товарищ майор?
Не зная, что ответить, палач потянулся к графину, налил по кругу, поднял рюмку и сказал первое, что пришло на ум:
– За Родину! За Сталина!
Выпили стоя, несмотря на лёгкое покачивание вагона.
Виктора Семёновича Абакумова майор Ягго знал лично и давно, ещё не будучи майором. Не сказать, конечно, чтобы они были запанибрата, но Абакумов явно симпатизировал молодому гэбисту, чья фамилия, благодаря отцу, гуляла из уст в уста по тюремным коридорам, обрастая полуфантастическими историями и легендами. Так, например, ходил среди тюремщиков слух о том, как не получилось однажды у старшего Ягго застрелить с первого раза приговорённого к смерти, и он, Ягго-старший, расколол ему череп невесть откуда взявшимся слесарным молотком. Говорят, голова у бедняги лопнула с оглушительным треском, как грецкий орех.
Иван Петрович тоже уважал Абакумова. Много общего в их биографиях Ягго-младший отмечал для себя. Ну, скажем, по отцовской линии: Ягго-старший начинал уборщиком на заводе – у министра отец тоже был уборщиком, правда, в больнице. У обоих матери работали прачками. И не только у них – у самого Сталина мать прачка, а вон какого бога родила! Ни один святой в подмётки не годится! Да и по образованию: что министр, что палач – примерно одинакового уровня, ведь нельзя же всерьёз называть образованным человека, еле-еле окончившего городское училище. Потому-то и не любили ни майор Ягго, ни генерал Абакумов разных там интеллигентов. Лезут и лезут в душу со своими словечками! Притом, «не любили» – ещё мягко сказано.
Сосед слева полуобернулся спиной, раскладывая что-то по тарелкам, и увидел майор подстриженный полькой русый затылок и чисто вымытую, аккуратно подбритую шею. Нахлынуло тут на Ивана Петровича, а руки так и зачесались. Подумалось ему: «Всадить бы тебе сейчас, контре, прямо в первый шейный позвонок свинцовый подарочек новогодний». Это у ката профессиональное – как увидит приготовленный беззащитный затылок, так сразу сами собой руки и чешутся.
По первости Иван Ягго использовал на работе опыт нацистских айнзацкоманд, которые обычно убивали людей, стреляя им в затылок. При этом фашисты не ставили человека на колени, а просто поворачивали спиной – так проще и быстрее, конечно, но куражу и шика нет. Ну, убил и убил, спихнул труп сапогом в расстрельную яму – и будь здоров! Следующий!
Со временем Иван Петрович сменил подход: у него – штучная работа, и её нужно сделать не только быстро, но и красиво. Прежде всего, надо, чтобы жертва не сопротивлялась. Истерика смазывает всё, приходится тогда действовать по немецкой методе, и целый день потом у Ивана Петровича испорченное настроение и болят виски, будто с перепою. Другое дело, когда приговорённый подавлен, сломлен и покорен. Вот тут-то и наступает звёздный час палача. Подручные по приказу ката ставят жертву на колени не абы как, а чтобы затылком к входной двери, руки чтобы не просто скручены сзади, а вывернуты кверху – тогда голова обречённого на смерть человека сама клонится книзу, и появляется прекрасная возможность прицелиться и выстрелить как бы снизу вверх – точно и ювелирно, с первой пули в первый шейный позвонок.
Долгим путём, путём проб и ошибок дошёл Ягго до первого шейного позвонка, убедившись на практике, что попадание пули в спинной мозг ведёт к неминуемой смерти. И теперь это его, Ивана Петровича Ягго, особенный, неповторимый почерк, за это ему уважение и почёт, и даже майорскую звезду досрочно на плечи положили.
Но и звезда ещё не предел! Каждый месяц в секретной ведомости жарится офицеру по особым поручениям солидная денежная котлета, раз в полгода – двойной оклад с доплатой за звезду, да к трудовому отпуску полагается прибавка в пятнадцать дней…
Ценит советская власть майора Ягго, кругом от неё палачу уважение и почёт.
– И, скажу я вам, – заплетающимся языком бормотал пьяный майор, окидывая мутно-кровавым взглядом почти опустевший вагон-ресторан, – кроме «Вальтера» калибра семь шестьдесят пять мне ничто другое и не подходит. Батя – да, тому подавай наган, а мне – «Вальтер»! Слышь, – поймал он за фартук насмерть перепуганную официантку, – «Вальтер»! Неси пару «Вальтеров», а сдачи не надо.
Офицеры охраны увели его под руки в купе, где переодели в пижаму и уложили спать на мягкий диван. И снилось майору, что для дальнейшего роста, дабы совсем уравняться с министром Абакумовым и стать Палачом с большой буквы, надо ему пустить в расход самого Абакумова. Аж дух захватывало от такого сна, словно оторвался от земли и полетел под облаками.
Хорошие сны иногда снятся даже палачам.
6
Мартовским хмурым утром вывели 1132-го на «свиданку». Он, конечно, подумал, что повели убивать, но затем догадался, что утром не казнят, да и вообще обстановка вокруг была какая-то благодушная – то ли от того, что весна на воле проклюнулась, то ли надзиратели позавтракали сытно, но только лица у них были не напряжены, не заморожены Уставом и Внутренними правилами. Обыкновенные были лица, незлые, с такими на расстрел не водят.
В специальной комнате, со столом посередине и двумя табуретками по бокам стола, ждала 1132-го родная тётка по матери, богомолица Евдокия.
– Ты не серчай на родных-то, – встала она с табурета и низко поклонилась 1132-му, – нельзя им тебя видеть, а почему – поймёшь, коли не дурак.
Да разве ж он против! Сам переживал, чтобы не лезли на рожон, а лучше всего, чтобы отказались от него, открестились, вычеркнули из своей жизни, тогда, может быть, и жена, и сын с дочкой не станут изгоями, оставят им хотя бы квартиру и дадут возможность жить дальше по-человечески.
– А всё грехи наши, – вздохнула богомолица, – от них и тернии, и гонения.
– Вроде бы не грешен ни в чём, – тихо сказал 1132-й, – чужого не брал, а давали – не отказывался.
– Бога забыл, – попрекнула тётка, – сам принимал подаяния от государства, а другим – ничего. Хотя бы и вины на тебе нет, а чужие грехи искупить придётся. Вот и уповай на Господа, молись, будет тебе от Него защита великая.
– Отчего же я за чужие грехи страдать должен? – смиренно спросил 1132-й, оглядываясь на сидящего возле двери надсмотрщика. Но тот, не видя крамолы в душеспасительной беседе, никак не выражал своих надзирательских чувств.
– Так Богу угодно – уклонилась от прямого ответа тётка Евдокия. – Выслушай притчу, и как будет чудо тебе явлено в виде милости Божией, сам не чурайся милостыни, обет себе дай не в корысти жить, а служа Богу через поможение простому народу.
«Помиловка выйдет? – мелькнула мысль у 1132-го. – Что-то чует старуха, недоговаривает».
– А вот и притча об участи принимающих милостыню, – богомолица поправила чёрный платок, перекрестилась и глянула в глаза 1132-му. – Некоторый затворник весьма славился в монастыре своём, так как вёл с юности святую жизнь. Отрекшись от всех удовольствий мирских, он заключил себя в тесной келии и служил Богу, умерщвляя тело своё постом и всенощным бдением, молясь Владыке всего о себе и о всём мире и упражняясь умом своим в богомыслии. В определённое время он принимал небольшое количество пищи из рук служителя монастырского; а из того, что посылал Бог через христиан братии монастырской, – золота, серебра, пищи и вина – он ничего никогда не брал себе. Было ему однажды такое видение: пришёл в тот монастырь начальник города и давал всем по сребренику. Подходит он и к затворнику, неся с собою златницу, и упрашивает его взять её; устыдившись сего честного мужа, старец взял златницу и положил её в свой карман. Вечером, совершив обычное правило, старец лёг на рогоже, намереваясь немного уснуть. И вот ему показалось, что он находится с остальною братиею того монастыря на пространном поле; всё поле то было заполнено тернием, и некоторый юноша (это был Ангел Господень) говорил монахам монастыря того: «Жните терние». Подошёл этот юноша и к затворнику и сказал ему:
«Подпояшься и жни терние». Когда же затворник начал отказываться, Ангел сказал: «У тебя не должно быть никаких отговорок, потому что ты вчера нанялся с прочими монахами, взявшими у того христолюбца по сребренику; ты взял златницу, и потому ты должен трудиться более других, пожиная терние, как принявший большую плату. Терние же, которое ты видишь, это – дела того человека, у которого вы вчера приняли милостыню; итак, приступи и жни с прочими». Проснувшись и размышляя о виденном, затворник весьма опечалился и тотчас послал за человеком, давшим ему милостыню, и упрашивал его взять свою златницу. Христолюбец же тот не хотел брать её обратно и сказал затворнику: «Оставь её у себя или отдай её, кому хочешь». Тогда старец сказал ему: «Я не хочу пожинать тернии чужих грехов, не будучи в силах избавиться и от своего греховного терния». Затем он выбросил ту златницу из келии своей и затворил окно. Узнав причину неприятия милостыни своей старцем, муж тот стал заботиться об исправлении своей жизни и начал творить многую милость нищим и убогим, помня, что, по Писанию, милостынею и верою очищаются грехи.
– Неужели жить стану! – невольно воскликнул осуждённый.
– На днях знак тебе будет, – будто не слыша 1132-го, вещала старуха, – о нём весь мир узнает, и новое время придёт, и многому удивятся люди, и многие не поверят; мёртвые заговорят, а живые покаются. А ты – молись, я тебе в посылочку молитовку положила, от руки писанную, ею священномученик Феодот, епископ Киринейский, спасался, и ты верою спасёшься, ежели обет дашь и притчу не забудешь. Ha-ко вот крестик православный, – богомолица достала из-за пазухи белый оловянный крест на чёрной суровой нитке, – носи, не брезговай, ты теперь не партейный, на бюро не вызовут, а верою спасёшься, и чудо будет явлено тебе.
1132-й снова оглянулся на охранника. Тот, с любопытством наблюдая, как старуха ломает комедию, слегка кивнул головой, давая понять, что против крестика ничего не имеет, равно, как ничего не имеет и против бабкиных пророчеств – заключённого перед казнью полезно успокоить душевно, чтобы не возникло в процессе экзекуции непредвиденных осложнений.
Смертник потянулся головой через стол, и Евдокия набросила ему крест на шею, затем осенила его знамением, сложив щепоть из трёх перстов и бормоча что-то нечленораздельное и, наконец, поцеловала несчастного племянника в желтоватый, словно из свечного воска, лоб.
– А какой знак мне будет? – уже с надеждой в голосе поинтересовался заключённый.
– В золотой клетке мёртвый лев, – загадочно ответила тётка, – про молитовку не забудь, и крест с шеи не сымай, молись и верою спасёшься.
Надзиратель ухмыльнулся, подумав про себя: «Как же, спасётся! От Ягго ещё никто живым на тот свет ни разу не уходил».
– Положись на Бога и более о душе думай, нежели о бренном. Христос терпел и нам велел, – вдругорядь напутствовала 1132-го тётка Евдокия.
– Свидание окончено, – встрял в разговор надзиратель. – Извините, мамаша, у нас тут не зоопарк и львы не водятся, поскольку объект режимный, к тому же и время ваше уже проистекло.
В камере, разбирая тёткину посылку, между пакетиком с круглыми карамельками, начинёнными грушевым повидлом, и шматком сала, обёрнутого фольгой, нашёл 1132-й тетрадный листок с неровным краем (видимо, второпях вырвали), на котором химическим карандашом выписаны были каллиграфические строчки. Тюремная цензура не вымарала ни одной, выходит, нет в них ничего противозаконного, а, может, махнули на него рукой? Дескать, напоследок пусть хотя бы писаниной утешится?
1132-й расправил бумажку и стал заучивать молитву наизусть: «Иисусе Христе, Сыне Бога, живущего во веки, свет христиан, крепкая надежда наша, будь со мной и помоги мне.
Господи Иисусе Христе, Творец всего видимого и невидимого, пленивший смерть, разрушивший ад, умертвивший на кресте начала и власти преисподней, осудивший князя века сего, даровавший свыше силу святым Твоим апостолам и соблюдший их от искушения, даровавший некогда отроку Давиду победу на гиганта Голиафа, укротивший пламень Вавилонской печи, остудив огонь росою, так, что он не повредил телам святых отроков, укрепи и меня в этих муках. Ты знаешь человеческую немощь, знаешь, что ничтожнее сора наша крепость, и сила наша отцветает скорее цветка.
Даждь славу имени Твоему, Господи, и подай силу моему бессилию. Разруши крепость восстающих на святую твою паству, да разумеет вся Вселенная, что Ты Един Бог Вышний, дающий крепость и силу надеющимся на Тебя!»
Впервые за последний год заключённый № 1132 спал спокойно.
В последующие дни он ходил по камере из угла в угол, истово повторяя, когда вполголоса, а когда про себя, завораживающие певучие слова, находя в них поэзию и глубокий смысл и не обращая внимания на странную напряжённую атмосферу, возникшую с некоторого времени в толстых каменных стенах Исполнительной тюрьмы.
И только седьмого марта, в субботу, получив прессу, узнал 1132-й о смерти Сталина.
«На днях знак тебе будет, – будто наяву услышал он голос богомолки. – В золотой клетке мёртвый лев».
Получается, не впустую вещала старуха. 1132-й вынул из-под рубахи крестик и, отвернувшись к решётчатому окну под потолком, забранному снаружи стальными полосами жалюзи, благоговейно поцеловал святое распятие.
7
А накануне, в пятницу, у Ивана Петровича был напряжённый и трудный день. С утра начальник тюрьмы полковник Гапонов собрал сотрудников в Красном уголке и, непрестанно вытирая потеющую лысину, дрожащим и растерянным голосом прочитал в газете «Правда» некролог. Гробовая тишина повисла в помещении, затем со зловещим шорохом несколько газетных номеров пошли по рукам. Один экземпляр «Правды» № 65 от 6 марта 1953 года оказался у Ягго.
Иван Петрович раскрыл первую страницу в траурной рамке, и на него знакомо глянул усатый грузин во френче и с погонами генералиссимуса. Кисть правой руки вождя была наполовину вложена за отворот парадного мундира ниже третьей пуговицы; над портретом, справа от названия газеты, крупным шрифтом выделялось официальное сообщение. Затаив дыхание, майор прочёл: «5 марта в 9 час. 50 минут вечера после тяжёлой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН. Бессмертное имя СТАЛИНА всегда будет жить…»
Иван Петрович поднял глаза – собравшиеся, сбившись вокруг обладателей «Правды» небольшими кучками, сосредоточенно вчитывались в газетные строки, и только возле него, Ивана Петровича Ягго, никого не было. Палач тряхнул головой и снова склонился над расплывающимися скупыми словами о крушении мира: «…советского народа и всего прогрессивного человечества».
Под названием газеты помещался в две колонки собственно некролог. У ката почему-то задрожали руки.
«ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР И ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза.
Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза…»
…буквы прыгали, читались с трудом, словно мутная пелена застила глаза палачу.
«Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа – Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА»…
Дальше Иван Петрович, как ни пытался, читать не смог. В голове звенело, крупные слёзы катились по его сизым щекам, сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет наружу. То же самое происходило и с остальными. Сам начальник тюрьмы плакал, не стесняясь.
Необычная тишина накрыла острог.
Мыши – и те, будто осознав значимость момента, перестали покидать свои норки, лишь выглядывая иногда оттуда с виноватым видом. Этапники из Владимирского Централа, куда в пятьдесят шестом Хрущёв упрячет сына Сталина, Василия, маялись в карантине – некому было их обшманать.
Ни одного заключённого в этот день не вывели на прогулку.
Почти до вечера Ягго, наравне с другими тюремщиками, поминал водкой усопшего вождя и учителя. После поминок Ивана Петровича вызвали через тюремный коммутатор в следственную камеру. Испуганный человек, с виду из жидов, сидел перед ним со связанными за спиной руками. Следователь в наглаженном чесучовом костюме, при галстуке и дорогих запонках на манжетах белой сорочки, ходил вокруг допрашиваемого и вежливо канючил:
– Вы же понимаете, что без Вашей подписи я не могу направить дело в судопроизводство, и, тем не менее, продолжаете отрицать очевидные факты.
– Я ни в чём не виноват, – односложно цедил щербатым ртом узник.
– Да, но в деле присутствуют факты, – опять гундел следователь, – вот, например, о Вашей поездке в Москву и о Вашей встрече с председателем Госплана СССР Вознесенским! Выставка опять же торговая… Или Вы никуда не ездили?
– Ездил. По делам службы. В командировку.
– Ну! – обрадовался следователь. – А говорите: «Не виноват». Как же не виноват, когда ездили и встречались, и есть мнение, что разговоры велись вокруг отторжения Ленинградской области от СССР. Не зря же в Ленинграде Всесоюзную выставку провели… Хотели столицей РСФСР сделать? Подпишите, пожалуйста.
Иван Петрович, некоторое время наблюдавший, какой лимонад развёл чистоплотный следователь, не выдержал, шагнул к обвиняемому и ткнул в него указательным пальцем.
– Он тут чё делает?
– Так, понятное дело, – суетливо стал объяснять следователь, стараясь не смотреть кату в глаза, – это подследственный Шульман, обвиняется по трём статьям.
– Подследственные по улицам ходят, а у нас в тюрьме, считай, уже все осужденные. Подписывай, сука, – глухо произнёс майор, сверху вниз глядя немигающими страшными глазами на беспомощную жертву. – Мы тебе тут власть или кто?
На висках у палача вздулись синие вены, зрачки расширились, белки выкатились наружу и покрылись сеткой красных кровавых прожилок, хищно раздулись ноздри, он задышал громко и часто, после чего неожиданно ударил с правой в небритый подбородок подследственного, одновременно ногой выбив из-под него стул. Человек, словно куль, упал лицом на пол. Кровяной ручеёк стал быстро превращаться в небольшую лужицу с неровными краями.
Следователь, бледный, как мел, испуганно выскочил за дверь.
В коридоре он нервно закурил папиросу «Казбек» и прислушался – из камеры доносились тупые звуки ударов сапогом по телу. Показалось даже в какой-то миг, что услышал он и как хряснули сломанные кости. Кроме того, ужасные удары сопровождались вскриками избиваемого и угрожающими возгласами ката:
– Это тебе за Сталина, сволочь! А это – за Ленина! Подписывай, мразь! За Сталина! За Ленина! За Сталина…
Когда дверь открылась и палач вышел, на него невозможно было смотреть без содрогания: вместо лица на нём была забрызганная кровью маска с жуткой улыбкой, похожей на омерзительную гримасу. Кровь спеклась на сапогах, на офицерской полушерстяной гимнастёрке и даже на погонах. Костяшки пальцев правой руки были разбиты напрочь, кисть отекла и стала неестественно багровой.
– Иди. Подпишет, что скажешь, – сказал истязатель и, шатаясь и прихрамывая (производственная травма), пошёл в забранный железной решёткой конец коридора, а там уже надзиратель, звеня связкой огромных ключей, торопился распахнуть перед ним собранную из толстых четырёхгранных прутков тяжёлую железную воротину.
8
Пил Иван Петрович, не просыхая, до самых похорон вождя, на которые прибыл вместе с родителем, одной рукой державшимся за локоть сына, а другой сжимая трость с набалдашником, представлявшим собой искусно вырезанный человеческий череп.
Тьма народу не помешала им находиться в первых рядах за спинами родни и соратников Иосифа Виссарионовича. Маленков, Берия, Молотов и Булганин несли вахту в почётном карауле. Василий Сталин стоял у самого гроба и плакал в открытую, не стесняясь. Кто-то из близких родственниц вытирал ему слёзы большим креповым платком.
Майор Ягго обратил внимание на Василия тогда, когда тот стал громко повторять, что отца намеренно отравили, потом у него началась самая настоящая истерика, усилившаяся возникшей давкой, и даже Светлана не могла успокоить брата, свистящим шёпотом жаловавшегося ей: «Теперь Берия меня на части порвёт, а Хрущёв с Маленковым ему помогут».
Ягго-отец не удивился, когда именно Маленков первым произнёс краткую надгробную речь. Престарелый кат, как заслуженный ветеран партии, был «закреплён» за парторганизацией завода «Красный пролетарий» и, получая персональную пенсию, живо интересовался партийным строительством. К примеру, в последнее время заметно было, как Сталин, отдаляя от себя Молотова, Ворошилова, Кагановича и Микояна, всё более и более приближал Маленкова. Ещё в декабре сорок девятого, когда «Правда» разродилась серией публикаций членов Политбюро, посвящённых семидесятилетию Иосифа Виссарионовича, авангардной была статья Маленкова и только после неё Молотова и иже с ним.
– Наша священная обязанность состоит в том… – трагическим голосом клялся над гробом диктатора свежий Председатель Совета Министров СССР, формально повторяя известную «Клятву» покойного, произнесённую им 26 января 1924 года на Втором Всесоюзном съезде Советов. Отличие было несущественное, подметил Пётр Янович, Сталин тогда клялся продолжать дело Ленина, повторяя неустанно:
«Клянёмся тебе, товарищ Ленин…»
Отец и сын Ягго стояли, понуро опустив головы. Сегодня они провожали в последний путь не просто вождя и учителя. Сегодня они хоронили эпоху.
В том, что через Маленкова Лаврентий Павлович теперь захочет взять власть в свои руки, 1132-й не сомневался. Он слишком хорошо знал всю изнанку подковёрных Кремлёвских интриг. И Берии нужен был такой глава правительства, каким заявил себя в тени Сталина «человек без биографии» – Георгий Максимилианович Маленков.
Крупное, мрачное, почти садистское лицо Маленкова с чёлкой чёрных волос на лбу как нельзя лучше подходило стране. Репутация злодея, которую он заработал во время чисток тридцатых годов? Так и это на руку Лаврентию Павловичу – все они повязаны теперь одной верёвочкой, включая Хрущёва. Пусть попробует кто-нибудь вякнуть не по делу – на каждого есть у Берии годами собираемое досье. И это не считая того, что Маленков сыграл одну из ведущих ролей на «сцене» «Ленинградского дела» – только погром в Музее истории блокады Ленинграда чего стоит! А ведь был ещё и разгром Еврейского антифашистского комитета, начавшийся в 1948 и завершившийся лишь в августе 1952 года расстрелом тринадцати из пятнадцати обвиняемых. Не сомневался 1132-й и в том, что Хрущёв и Булганин согласятся с Берией по поводу выдвижения Маленкова на наиболее важный, ключевой, государственный пост.
Словно подтверждая догадки 1132-го, «Правда» поместила фотографии, изображающие Сталина, Мао Цзэдуна и Маленкова, причём создавалось впечатление, что Сталин и Мао Цзэдун чуть ли ни благоговейно смотрят на женоподобного Георгия Максимилиановича (товарищи за глаза называли его Маланьей) и внимательно слушают, о чём он говорит. Остальных политиков, присутствовавших на подписании советско-китайского договора о дружбе и взаимной помощи, который руководители двух стран заключили ещё 14 февраля 1950 года, опытный ретушёр убрал на второй план. 1132-й знал наверняка, что эти видные деятели никогда вместе не фотографировались, значит, фальсификация должна была укрепить положение Маленкова как нового советского лидера.
Грядущая послесталинская эпоха, как и предыдущие, начиналась с обмана.
Роль Берии тоже просматривалась 1132-м достаточно чётко – Лаврентий Павлович хотел быть кукловодом, чтобы двигать фигуры на политической доске страны Советов в нужном ему направлении. Его реформы могли вызвать неоднозначную реакцию как в ЦК, так и в Политбюро, а для этого ему необходимо сосредоточить в руках контроль над всеми правоохранительными органами. Не понаслышке знал 1132-й, каким жестоким и коварным становился Берия в удовлетворении своих амбиций.
Шагая по камере от стены к стене, вспомнил 1132-й март 1944 года и эпизод, свидетелем которого он стал поневоле, принеся в кабинет наркома какие-то бумаги на подпись. В это же время, с разрешения хозяина кабинета, вошёл отчитаться по проделанной работе комиссар госбезопасности 3-го ранга Михаил Максимович Гвишиани, лично отвечающий за депортацию чеченцев и ингушей. Он доложил, что 27 февраля, чтобы не срывать сроки насильственного переселения и не подставлять под удар Сталинского гнева органы НКВД, ему, Михаилу Гвишиани, как руководителю акции, пришлось принять решение об уничтожении семисот человек.
– Изложите подробнее, – деловито попросил Лаврентий Павлович.
– В этот день необходимо было по разнарядке депортировать шесть тысяч жителей селения Хайбах Шатойского района, – стал рапортовать комиссар, глядя в поблескивающие стёкла круглых очков своего начальника. – Погода в горах сами знаете – непредсказуема, а эшелоны ждут. Тех, кто мог дойти до станции по бездорожью и снежным заносам, мы, конечно, отправили, но остались больные и старые чеченцы, которые самостоятельно передвигаться не могли. Я принял решение поместить их в конюшню колхоза имени товарища Берии и затем обстрелять из автоматов.
– Вы с ума сошли, – вскинулся нарком, – кто их теперь будет хоронить?
– Хоронить никого не надо, – успокоил шефа Гвишиани, – потому что после обстрела я дал команду обложить здание сеном и сжечь, как ветхое и непригодное к дальнейшему использованию, а ветер и снег вымели пепел – даже следов не осталось.
Берия с облегчением вздохнул, встал со своего кресла, вышел из-за стола и, подойдя к комиссару, крепко пожал ему руку:
– За решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайбах Вы представлены к правительственной награде с повышением в звании. Поздравляю!
И опять всплыл в памяти 1132-го отчёт о казни номенклатуры фашистской Германии. На этот раз подумалось смертнику о том, что, как ни сваливали фашисты свои злодеяния на Гитлера, им не удалось миновать заслуженной кары. Трупы военных преступников сожгли, а прах развеяли по ветру. Но в его родной стране всё было иначе. Захватившие власть государственные преступники не просто убивали людей, они уничтожали собственный народ, который, однако, слепо верил им и шёл за ними в утопию.
«Почему так происходит? – мучительно размышлял он. – В чём причина кровавой драмы, разразившейся в России?» Ответ явился в виде дореволюционных дневниковых записей Святого Иоанна Кронштадтского, запрещённых Советской властью, но доступных узкому кругу людей, в числе которых в то время был и 1132-й.
Заключённый лёг спиной на жесткий матрац, скрестив под затылком пальцы рук, и попытался мысленно воспроизвести слова протоиерея о России.
«Держись же, Россия, твёрдо веры твоей и Церкви, и Царя Православного, если хочешь быть непоколебимой людьми неверия, безначалия и не хочешь лишиться царства и Царя Православного. А если отпадёшь от своей веры, как уже отпали от неё многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга. И если не будет покаяния у русского народа – конец мира близок. Бог отнимет у него благочестивого Царя и пошлёт бич в лице нечестивых, жестоких, самозваных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами…».
1132-й ощутил, как по его впалым щекам катятся слёзы, хотя на допросах он держался мужественно и даже во время пыток не проронил ни одной слезинки. Смертник прижал к искусанным губам подаренный тёткой крестик и, закрыв глаза, стал истово целовать его, нашёптывая распятию слова заученной молитвы.
9
Из донесений агентов госбезопасности СССР (Хроника событий):
4 марта 1953 года.
…Во время погрузки деталей каркасных домов на берегу реки Дон колхозник Белоусенко сообщил, что по радио передали о тяжёлом состоянии здоровья Сталина, у которого произошло кровоизлияние в мозг. В ответ на это колхозник Г. М. Гладких заявил: «Взяли бы и отрезали ему ухо и сбили кровь». Потом добавил: «Козлам уши режут, и они живые остаются». (ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп.31.Д. 39954.)
…Заключённый Лобачёв Ф. Н., узнав о болезни Сталина, нецензурно выругался и сказал: «Может, умрёт – нам будет легче». Лобачёв с конца 1951 года ругал советское правительство, Сталина, колхозы, говорил, что ждать амнистии нечего, на всех стройках работают заключённые, освободить их могут только американцы, когда победят СССР. (ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп.31. Д. 40208; Ф. Р-9474. Оп.41. Д. 1454.)
5 марта 1953 года.
…Комсомолец Сычёв Н. Д., машинист Куйбышевского строительного управления, услышав о болезни Сталина, сказал: «Поскольку у товарища Сталина анализ мочи был ненормальный, возможно, у товарища Сталина было венерическое заболевание, может быть, схватил что-нибудь наподобие триппера». (ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп.31. Д. 43166.)
6 марта 1953 года.
…Прежде судимый художник Кирзунов А. Г, без места жительства и работы, в закусочной в г. Сухуми (Грузинская ССР) в нетрезвом состоянии заявил:
«Грузинский царь умер, будет русский царь, и тогда мы вам покажем!» (ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп.31. Д. 40051.)
…Косаурихин Ф. П., не работавший, прежде судимый, проживавший в г. Южно-Сахалинске, в 1951 году сказал, что решающую роль в победе в войне сыграл не Сталин, а Жуков; 6 марта 1953 года в нетрезвом состоянии у винного ларька ругал Сталина и читал «антисоветские стихи». (ГА РФ. Ф. Р-9474. Оп.40.Д. 1288.)
…Еньков А. А., рабочий, 6 марта 1953 года в общежитии Кизыл-Арватского вагоноремонтного завода при известии о смерти Сталина заявил: «Ну, что тут такого», – и нецензурно «выразился» по поводу кончины вождя, сказал, что, мол, «на его место найдутся другие». (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп.31. Д. 43134а.)
…Левин 3. Е., член партии, помощник начальника станции Московской окружной железной дороги, 6 марта 1953 года во время разговора о том, как много народа идёт в Колонный зал для прощания с телом Сталина и как трудно туда добраться, сказал: «Наш народ жалостливый. Если даже негодяй помрёт, так и то его семье оказывают сожаление, а это всё-таки вождь». В тот же день пересказывал слухи, что «сын товарища Сталина неродной», что «сильно пьёт водку, жена жалуется на него т. Сталину, и его сажают на гауптвахту». (ГА РФ. Ф. Р-8121. Оп.31. Д. 43005.)