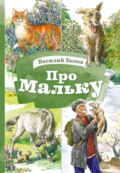Василий Белов
Повести
Родничок был невелик и небоек, он пробивался из нутра сосновой горушки совсем не нахально. Летом он весь обрастал травой, песчаный, тихо струил воду на большую дорогу. Зимой здесь ветром сметало в сторону снег, лишь слегка прикрывало, будто для тепла, и он не замерзал. Вода была так прозрачна, что казалось, что ее нет вовсе, этой воды.
Иван Африканович хотел закурить и вместе с кисетом вытащил из кармана бумажку, что вручили ему в сельсовете. Написана она была карандашом под копирку.
«АКТ
Мы нижеподписавшиеся составили настоящий акт. В том, что с одной стороны контора сельпо в лице продавца с другой возчик Дрынов Иван Африканович, при трех свидетелях. Акт составлен на предмет показанья и для выяснения товара. Сего числа текущего года возчик Дрынов Иван Африканович вез товар со склада сельпо и лошадь пришла без него, а где был вышеозначенный т. Дрынов И. Аф. это не известно, а по накладной весь товар оказался в наличности. Только лошадь с товаром по причине ночного время зашла в конюшню и дровни перевернула, а т. Дрынов спал в сосновской бане и два самовара из дровней упали вниз. Данные самовары на сумму 54 руб. 84 коп. получили дефект, а именно: отломились ихние краны и на одном сильно измятый бок. Другой самовар повреждений, кроме крана, не получил. Весь остальной товар принят по накладной в сохранность, только т. Дрынов на сдачу не явился, в чем и составлен настоящий акт».
Глава вторая
1. Детки
Ему было хорошо, этому шестинедельному человеку. Да, он жил на свете всего лишь только шесть недель. Конечно, если не считать те девять месяцев. Ему не было дела ни до чего. Девять месяцев и шесть недель тому назад его не существовало.
Шесть недель прошло с той минуты, как оборвалась пуповина и материнская кровь перестала питать его маленькое тельце. А теперь у него было свое сердечко, все свое. При рождении он криком провозгласил сам себя. Уже тогда он ощущал твердое и мягкое, потом теплое и холодное, светлое и темное. Вскоре он стал различать цвета. Звуки понемногу тоже приобретали для него свои различия. Но самое сильное ощущение было ощущение голода. Оно не прекращалось даже тогда, когда он, насытившись материнским молоком, улыбался белому снегу. Даже во сне потребность в насыщении не исчезала.
И вот он лежал в люльке, и ему было хорошо, хотя он сознавал это только одним телом. Не было и тени отвлеченного, нефизического сознания этого «хорошо». Ноги почему-то сами двигались, туда-сюда, пальчики на руках, тоже сами, то сжимались в кулачок, то растопыривались. У него еще не было разницы между сном и не сном. Во сне он жил так же, как и до этого. И переход от сна к не сну для него не существовал.
Люлька слегка покачивалась. Если б он был чуть побольше, то он услышал бы, что бабкины руки пахнут дымом. Он бы увидел громадный потрескавшийся потолок, и рев старшего, полуторагодовалого Володи вывел бы его из созерцательно-счастливого равнодушия.
– Бес ты, Володька, чистый бес, – ласково говорила бабка Евстолья. – И не стыдно тебе?
Володька ревел у нее на руках.
У него, у этого полуторагодовалого Володи, шла борьба с младшим шестинедельным братом. Борьба за люльку. Он, Володя, еще качался в колыбели, когда место в ней занял младший, только что родившийся его брат.
Володя уже ходил на своих ногах, говорил много слов, бабку называл мамой и отца папой – и все еще качался в люльке. Когда его выселили в первый раз, он сначала как бы снисходительно уступил люльку. Но уже через минуту изумился этой явной несправедливости, заревел благим матом и залягался.
Ему и сейчас хотелось в люльку. Еще ему хотелось, чтобы рядом была мать, и эта тоска, боль оттого, что матери нет рядом, сама собой выливалась в жажду завладеть люлькой.
Бабка подоткнула одеяло, передвинула маленького в один конец, а в другой уложила Володьку.
Люлька была большая. Володька сразу успокоился, а маленькому было все равно, с кем лежать. Володька потянулся за соской. Ему давно было положено отстать от соски, но он все еще не мог отвыкнуть от нее. Бабка мазала соску горчицей, говорила, что соску утащила собака, но все было напрасно: Володька не расставался с резиновой пустышкой.
Володька лежал в люльке довольный и успокоившийся. Новое существо шевелилось где-то в ногах, но он уже привыкал к этому беспокойству. Но Володьке хотелось, чтобы люлька качалась, чтобы очеп скрипел как обычно. Он задумался, глядя на солнечный зайчик, отраженный на стене стеклом комода.
Он уже знал все звуки родимой избы. Особенно звук двери. У него замирало сердце от тоски, когда бабка с ведром выходила из избы и исчезала. Тогда ему становилось невыносимо тоскливо. Слезы готовы были брызнуть, и губы сами складывались горькой подковкой.
Долгие, жуткие длились секунды. Он уже не мог сдерживать слезного крика. Из сжатого горлышка вот-вот бы вырвался этот крик, но вдруг дверь отворялась и бабка Евстолья, живая, настоящая, появлялась в избе и, не глядя на ребят, торопилась к печи. Радость и облегчение разом гасили Володькино одиночество, накопившийся крик и слезы проглатывались. Так повторялось много раз, пока бабка не кончала обряжаться. Он не мог привыкнуть к этому. Тоска по всегда отсутствующей матери точила его сердечко, а когда уходила бабка, ему было и вовсе невмоготу. Даже не помогало укачивание колыбели.
Маруся, старшая сестренка двух лежащих в колыбели братьев, подошла к люльке, загремела им погремушкой. Ей было четыре года, каждый сучок в люльке она знала лучше Володьки, и ей иногда тоже очень хотелось в люльку…
– Покачай ты их, Маруся, – сказала бабка, – покачай, хорошая девушка. Вот, вот, за веревочку. Умница! Вот оне вырастут, тебя на машине покатают.
Маруся тихонько качнула люльку. За окошком белел снег и светилось солнышко. Мама ушла по этому снегу. Маруся еще спала, а мама ушла. И папы нет. Маруся все время молчала, и никто не знал, что она думает. Она родилась как раз в то время, когда нынешняя корова Рогуля была еще телочкой и молока не было, и от этого Маруся росла тихо и все чего-то думала, думала, но никто не знал, что она думала.
Бабка Евстолья поставила самовар:
– Вот мама сейчас придет, чай станем пить. Гришку с Васькой разбудим, да и Катюшке с Мишкой, наверно, уже напостыло спать.
Упоминание о матери отразилось на Марусином личике долгой изумленно-тревожной улыбкой. Она словно бы вспомнила, что у нее есть мама, и вся засветилась от радости, восхищенно выдохнула:
– Мамушка?
– Мамушка и придет, – подтвердила бабка Евстолья. – Вот как коровушек подоит, так и придет.
Девочка снова задумчиво и отрешенно поглядела на улицу.
Мишка с Васькой – близнецы, обоим по шесть годов, – пробудились оба сразу и устроили возню. Потом долго надевали тоже одинаковые свои штаны: каждый раз который-нибудь надевал штаны задом наперед да так и ходил весь день. Четыре валенка у них были не парные, перемешанные: ребята долго и шумно выбирали их из кучи других валенок, сушившихся на печи. Наконец валенки были извлечены и обуты. На сарае, куда отправились выспавшиеся братики, было холодно и пахло промерзшим сеном. Дрожа от стужи, ребята поднатужились, каждый хотел брызнуть дальше другого.
– Я вот вам покажу, я вот вам уши-то надеру! – услышали они голос бабки Евстольи. – Ишь, всю стену облили, прохвосты, намерзло, как на мельнице!
Бабка выходила с ведром к корове. Мишка с Васькой побежали в избу. Утренний необъяснимый восторг насквозь пронизывал их обоих и замирал где-то у самых копчиков. Им хотелось то ли завизжать, то ли полететь, однако холод заставил быстро убраться в избу. Интересно, встала или еще спит Катюшка? Она каждый раз велит им умываться, такая начальница. Спит. Они, не сговариваясь, молча, легко убедили себя в том, что забыли умыться.
Хотелось есть. Из-за перегородки пахло жареной картошкой, шумел у шестка самовар. Васька дотронулся пальцем до самовара, и Мишка дотронулся, Мишка подул на палец, и Васька подул.
Чего это опять Володька ревет? Он и Катюшку с Гришкой разбудил, ревет.
Глядя на Володьку, замигала глазенками и Маруся. Мишка и Васька подошли к люльке. Володька ревет. А этот, новый-то, не ревет. Ваське и Мишке торчать у люльки не было никакого интереса; не дожидаясь еды, надели шапки, пальтишки сняли с гвоздиков – и на улицу…
Катюшка вскочила с постели и сразу взяла Володьку на руки. Володька успокоился. Гришка, ленивый соня, вставать не хотел. Катюшка еще вчера уроки выучила, а Гришка отложил на сегодня, и вот он лежал, не мог преодолеть лень, и у него болела душа из-за невыученных уроков. Конечно, письменное-то делать все равно придется, и упражнение писать, и примеры решать. А вот устное… Хорошо Ваське с Мишкой, они в школу не ходят. Все-таки Гришке пришлось вставать, он ходил уже в третий. А Катюшка училась в четвертом, она все видела – как Гришка жил и что он делал, видела, и Гришке не было от нее покоя. Вот и сейчас успокоила Володьку – и на него, как учительница, бери то, делай это, усадила за стол и велит примеры решать, а когда решать-то? Вон бабка уже и самовар несет, на стол ставит.
…Так началось утро в семье Ивана Африкановича. Обычное апрельское утро. Постепенно все были накормлены, все одеты. Катюшка с Гришкой ушли в школу. Васька с Мишкой убежали опять гулять по деревне, Марусю в больших, не по росту валенках тоже увели гулять в другую избу. Дома остались лишь Володька с маленьким. Они спали в люльке, и очеп легонько поскрипывал, и бабка Евстолья сбивала мутовкой сметану в горшке. В избе тикали часы, скреблась под половицей мышка. Но не успела бабка Евстолья опомниться от утренней канители, как в дом опять заявились сперва Маруся, потом и Мишка с Васькой. И еще человек шесть сотоварищей.
Успели уже и перемерзнуть, снегу натащили, немного и погуляли.
– Ой, беда, однако! – Евстолья по очереди вытирала им холодные, мокрые носы. – Хоть бы один умер, дак ведь нет, не умрет ни который. Где погостили-то? Как пошехонцы, как пошехонцы! Вот пошехонцы-ти раньше тоже были растрепы. Кушать кушали, а жить-то не умели.
– Баба, сказку, баба, сказку! – Васька запрыгал на одной ноге, задергал бабкин подол.
– Дак вам какую севодни, пошехонскую аль про кота с петухом?
Все дружно остановились на пошехонской.
2. Бабкины сказки
– Давно было дело – еще баба девкой была, – не торопясь, тихонько начала бабка Евстолья. – Васька, не вертись! А ты, Мишка, опять пуговку отмолол. Ужо я тебе! В большой-то деревне, в болотном краю жили невеселые мужики, одно слово – пошехонцы, и все-то у тех мужиков неладно шло. А деревня-то завелась большая, а печи-то бабы топили все в разное времечко. Одна утром затопит, другая – днем, а иная – и темной ночкой. Запалит, посидит у окошка да и давай блины творить. Пока блины-то ходят, печка протопится, баба вдругорядь растоплять. Пока вдругорядь растопит, блины-то возьмут да и закиснут. Так и маялись, сердешные.
Бабка Евстолья рассказывала все это еще походя. Но вот наконец она обтерла стол, взяла в кухне рыльник со сметаной и села на лавку. Кое-кто из ребятишек уже забыл было закрыть рот, а теперь завозился. Но стоило ей начать рассказывать, и все тут же угомонились.
– Робетешечка без штанов бегали, девки да робята плясать не умели. А старики да старухи любили табак нюхать. До того любили, что все пронюхали, до последней копеечки. Да они и молоденьких научили. А табак-то надо возить издалека, за много верст. Срядили, благословясь, обоз. А как срядили? Все дело выручил умный Павел. «Надо, – говорит, – нам всем вместе ехать. Потому как всем вместе лучше». Сказал да и велел всем мужикам к завтрему готовыми быть, чтобы лошади были накормлены, чтобы завертки новые были. А вожжи связаны, которые лопнули. Вот легли пошехонцы спать. Небо-то к ночи выяснило, избы мороз выстудил все. Пошехонцы на полати забилися. Утром Павел идет с обходом: «Запрягай, робятушки!» Самый хозяйственный да толковый был этот Павел. Зашевелились пошехонцы, започесывались. В одной избе брат говорит другому брату: «Рано еще вставать, вон и на улице тёмно». Другой брат говорит: «Нет, надо вставать, вон и Павел велит вставать». Что делать? Порешили к суседским братьям сходить, узнать: время вставать аль не время еще. Разбудили суседских, стало их четверо. Суседские братцы и говорят: «Пожалуй, робята, рано еще вставать-то, вон и на улице тёмно». Встали все посередь улицы да и спорят. Одне говорят: надо вставать, другие – что вставать рано. Один и говорит: «Вот мы давайте еще вон в этом дому спросим». Разбудили еще один дом, стало их шестеро, и опять не могут прийти к согласью: кто говорит – рано, кто кричит: «Надо вставать!» Сгрудились все в одном краю, весь край и разбудили, шум подняли, крику этого хоть отбавляй. И не знают, чего делать. А умный Павел в том конце мужиков будит: «Запрягай, робятушки, надо за табаком ехать!» Ну, делать нечего, в том краю почали мужики вставать. Один мужик, Мартыном звали, и говорит: «Матка, матка, а где портки-то?» Забыл, куда портки оклал. Нашли ему портки, одевать надо. Мартын и говорит брату, все братья жили вместе, никогда не делились пошехонцы. Мартын и говорит: «Ты, Петруха, держи портки-то, а я буду с полатей в них прыгать». Взял Петруха портки, держит внизу, а Мартын прыгнул да попал только одной ногой. Полез опять на полати, вдругорядь прыгнул. Долго ли, коротко ли, а попали в портки обе ноги. А в том конце все еще крик стоит, как на ярмарке. Разделились у мужиков мненья-то: одне говорят, вставать надо, другие кричат, что рано. Пока спорили, звездочки все до единой потухли, хорошо, что хоть драки не было. Павел запряг первый свою кобылу, на дорогу выехал, срядились и другие по-за нему. Стал запрягать Лукьян с Федулой. Федула говорит Лукьяну: «Ты, брат Лукьян, держи крепче хомут-то, а я кобылу буду в его пехать». Держит Лукьян хомут, а Федула кобылу в хомут вот пехает, вот пехает. Весь Федула вспотел, а кобыла все мимо да мимо. Напостыло кобыле, взяла да как лягнет Федулу, все зубья в роте Федуле вышибла.
Евстолья остановилась, потому что ребятишки недружно засмеялись. Только Маруся, едва улыбнувшись, тихо сидела на лавке. Бабка погладила ее по темени, продолжала:
– Поехали. А выехали-то уж поздно, прособиралися долго. Едут оне, кругом чистое поле, а велик ли и день зимой? Проехали один волок, вздумали ночевать пошехонцы. Ночевать в этой деревне пускали. А дело в святки было, здешние робята по ночам баловали. У кого поленницу раскатят, у кого трубу шапкой заткнут, а то и ворота водой приморозят. Углядели они пошехонский обоз. Лошадей-то распрягли, а все оглобли через изгороди и просунули да опять запрягли. Утром пошехонцы поехали дальше, а возы-то ни туды, ни сюды, никак с места не могут сдвинуться. Огороды да калитки трещат, хозяева выскочили. Почали молотить пошехонцев: разве это дело? Все прясла переломаны, все калитки пошехонцы на оглоблях уволокли. Еле живыми пошехонцы выехали из деревни, даже толковому Павлу тюма по голове досталася. Ну, кое-как да кое-как проехали еще день, начало темнять вдругорядь, попросились опять ночевать. Мартын и говорит Павлу: «Теперече надо нам лошадей распрягчи, чтобы такого побоища, как вчера, не было». Напоили лошадок, сенца дали, сами попили кипяточку да и легли спать. А местные мужики шли вечером с беседы да и перевернули дровни-то оглоблями в обратную сторону. Утром Павел поднял обоз еще затемно. Как стояли дровни-то оглоблями не в ту сторону, так пошехонцы их и запрягли, да так и поехали со Христом. Едут день, ночь, одну деревню проехали, волок минули, довольные, – скоро и к месту приедут, табаку купят да обратно к бабам на теплые печки. Дорога была хорошая. Подъехали пошехонцы к большой деревне. Мартын и говорит: «Лукьян, а Лукьян, баня-то на твою похожа, тоже нет крыши-то». – «Нет, Мартын, – Лукьян говорит, – моя баня воротами вправо, а у этой ворота влево глядят. Не похожа эта баня на мою». – «А вон вроде Павлова баба за водой пошла, – Федула шумит, – и сарафан точь-в-точь!» – «Не ври!» – «А вон и крыша похожа! Ей-богу». – «Робята, – говорит Павел, – а вить деревня-то наша! Ей-богу, наша, только перевернулася! Дак ведь, кажись, и я-то Павел?» Это Павел-то эк говорит да за уши себя и щупает. Павел он али не Павел. Забыл, вишь, что он это и есть. Как из дому выехал, так и забыл. Вот какой был Павел толковый, а уж чего про тех говорить. И говорить про тех нечего.
Бабка Евстолья энергично взбивала мутовкой густую сметану. Ребята, раскрыв глазенки, слушали про мужиков-пошехонцев. Они еще не всё понимали, но бабку слушали с интересом.
– Вот и ты, Васька, как тот пошехонец, вишь, опять штаны-ти не так одел. Сказывать далыне-то?
– Сказывать, сказывать! – зашевелились, заулыбались, запеременивались местами.
Бабка добавила в горшок сметаны, очеп опять монотонно заскрипел в избе.
– Ничего у них не росло. Ржи не сеяли, одну только репу. А крапиву, чтобы у домов не росла, поливали постным маслом – кто их так научил, Бог знает. Кто что скажет, то и делали, совсем были безответные эти пошехонцы. Никому-то слова поперек не скажут, из себя выходили редко, да и то когда пьяные. Один раз наварили овсяного киселя. Хороший вышел кисель, густой, вот его хлебать время пришло. Раньше кисель овсяный с молоком хлебали. Мужиков шесть, а то и семь было в семье-то, уселись за стол кисель с молоком хлебать. Кисель на стол поставили, а молоко как стояло на окне, так там его и оставили. Первый хлебнул, побежал к молоку, молока прихлебнул. Так все семеро и бегают от стола да к окошку, молоко прихлебывать. Через скамейку с ложками-то перелезают. Облились-то! Ой, Господи.
Евстолья и сама засмеялась.
– Вот дожили пошехонцы до тюки. Ничего нет, ни хлеба, ни табаку. Да и народу-то мало стало, кое примерли, кое медведки в лесу задрали. Видят, совсем дело-то худо. «Робята, ведь умрем», – говорят. «Умрем, ей-богу, умрем, ежели так и дальше дело пойдет», – это другие на ответ. Первый раз все мненья в одну точку сошлись. Стали думать, чего дальше делать, как жить. Одне говорят: «Надо нам начальство хорошее, непьющее. Без хорошего начальства погибнем». Другие говорят: «Надо, мужики, нам репу-то не садить, а садить брюкву. Брюква, она, матушка, нас выручит, она!» Тут Павел говорит: «Нет, мужики, все не дело это, а надо нам по свету идти, свою долю искать. Есть где-то она, наша доля-то». Сказал да и сел. «Должна быть!» – это Мартын говорит, а Федула, тот уснул на собранье. Судили-рядили, постановили пошехонцы идти по белому свету свою пошехонскую долю искать. Сухариков насушили, котомочки справили. А уж и всех к тому времю нешто осталось. Пошли, сердешные, Богу не помолились, уж все одно худо. Шли, шли, поись прибажилось. Толокна было на всех мешок кулевой, а посудишки-то нет, как толокна развести? «Давай, робята, сыпь в озеро да размешивай». Высыпали толокно в озеро да и ну размешивать. «Ну, теперь хлебай». А чего хлебать-то? Хлебать-то и нечего, одна пустая водица. «Видно, – говорят, – надо было больше толокна-то из дому прихватить». Нечего делать, пошли дальше голодные. Шли, шли, надо и про ночлег подумать. Летом кажин кустик ночевать пустит, пристроились пошехонцы на устороньице у леска, котомочки развязали. Пришло время спать ложиться. Вот оне и улеглись все рядышком, один к одному, человек двадцать к тому сроку в живых осталося. Улеглись. А те, которые с краю-то, все времечко соскочат да бегут в серединку. Никто с краю не хочет, – видать, волков боятся. Так и перебегают; только бы уснуть – гляди, опять крайние в середку лезут, а новые крайние уже засыпать начали, вставай да в середку бежи. Странник прохожий с ихней артелью ночевал, вот он и говорит: «Давайте-ко, робятушки, я вас научу, как из положенья выйти, как ночевать, чтобы всем в середке». – «Научи, – говорят, – мы тебе по алтыну дадим». – «А вот, – говорит, – что, робятушки, идите-ка со мной». Подошел странник ближе к лесу, большой муравейник нашел. «Ложитесь, – говорит, – все головами на эту кучу, никого и не будет крайних-то». Довольны мужики, собрали страннику по алтыну, улеглись головами в муравейник. Не стало с краю ни одного, а странник поглядел на их да и лег под сосенкой. Чего дальше было, как пошехонцы ночь ночевали, уж и не знаю, дело давно случилось. Видно, дальше пошли на другой день все искусанные. Идут, идут долю искать, дошли до широкой реки. «Робята, река», – Мартын говорит. «Река», – это Лукьян ему на ответ. Весь на этом и разговор кончился. Опять странник выручил: «Давайте, – говорит, – по гривеннику, научу, как на тот берег попасть». Делать нечего, дали пошехонцы по гривеннику. «Вот берите, – говорит, – бревно. Да садитесь все на его верхом. А чтобы не утонуть-то, дак вы ноги внизу покрепче свяжите. Есть веревочки-то?» – «Есть, есть!» Рады пошехонцы. Уселись на бревно, ноги внизу связали. Поехали. Только отшатнулись от берега-то, все и перевернулись туточка, да и пошли от их пузыри. Больше половины захлебнулося, вылезли, которые остались-то, да и говорят: «Надо нам этого странника наколотить, это он нас не делу научил». Поглядели, а странника и следок простыл. Ему что, с гривенниками-то. Пошли пошехонцы дальше, совсем их мало осталось, и всего человек шесть. Павел да Мартын, да Лукьян с Федулой, да Таврило с Осипом – вот и вся пошехонская артель. «Робята, – это Осип говорит, – а ежели война? Кто на фрон пойдет, ежели нас шесть осталось?» – «Наше дело маленькое, – Федула говорит, – да и войны-то еще, может, не будет». Поговорили да опять пошли, опять солнышко к земле пригнелось, опять комарочки запели-запокусывали. Надо ночлег смекать. Еле добрались до подворья-то, устали, родименькие. Стоит постоялый двор у трех дорог, калачами с вином хозяин торгует, сапоги новые, рожа, как самовар, красная. «Это вы, – говорит, – и есть эти пошехонцы-то?» – «Мы, батюшко, мы и есть, долю ищем». – «Ну, ну, – говорит. – Вон ложитесь-ко в дровяник, в чистые залы вас не пущу». Улеглись пошехонцы в дровянике, до того добро на щепочках, захрапели в охотку. Утром вставать надо. Стали вставать, Федула говорит: «У меня ноги не эти, мои ноги вон те». – «Нет, эти мои, – Мартын шумит, – а твои вон те, у меня ноги в новых чеботах были». Лукьян пробудился, заспорил тоже, Осип с Гаврилой шумят, спорят, где чьи ноги, не могут установить. Вышел хозяин: «Что за шум? Почему брань с утра?» Зашумели пошехонцы, друг на дружку начали жаловаться. «Платите по гривне, разберу, где чьи ноги». Это хозяин-то им. Кошели развязали, заплатили по гривеннику, сидя кошельки распечатали, последний гривенник каждый отдал. Хозяин взял оглоблю да как поведет оглоблей-то, не по головам сперва. Второй раз размахнулся, по головам хотел, спрыгнули пошехонцы со щепочек, как ветром сдуло, все ноги сразу нашлись.
Как раз на этом месте скрипнули ворота, и в избу вошла Степановна, Нюшкина мать и двоюродная тетка Ивана Африкановича. Она мельком перекрестилась.
– Здравствуй, Евстольюшка.
– Ой, ой, Степановна, проходи, девка, проходи.
Старухи поцеловались. Гостья развязала шаль, сняла фуфайку.
Евстолья радостно завыставляла пироги, начала ставить самовар, сопровождая все это непрекращающейся речью. Говорила и гостья, они говорили одновременно, словно бы не слушая, но прекрасно понимая друг дружку.
– Вот каково добро, что ты хоть пришла-то, а у меня сегодня уголь из печи выскочил, экой большой уголь, да и кот весь день умывался, да и сорока-то у ворот стрекотала, ну, думаю, к верным гостям, сразику три приметы.
Степановна слушала и тоже успевала говорить:
– А я, матушка, уж давно к вам собиралась-то, а тут, думаю, дай-ко схожу попроведаю.
– Дак какова здоровьем-то?
– И не говори, Евстольюшка, две неделюшки вылежала и печь не могла топить, вот как руки тосковали. Нюшка-то говорит: «Ехала бы в больницу в районную-то», а я говорю: «Полно, девка, чего ехать, никакие порошки не помогут, ежели годы вышли». Вот на печь-то лягу, да на кирпичи, на самые жаркие, руки-то окладу, вроде и полегче станет. Худая стала, худая, Евстольюшка.
– Чего говорить. Вон у нас Катерина тоже все времечко жалуется, все времечко. Парня-то когда принесла, дак велено было на работу-то пока не ходить, а она на другой день и побежала к коровам, позавчера хоть бы родила, а сегодня и побежала.
– Ой, ой, хоть бы нидильку, нидильку…
– Вся-то изломалась, вся, – Евстолья заутирала глаза, – нету у ее живого места, каждое место болит. Я и говорю: «Плюнь ты, девка, на этих коров-то!» А какое плюнь, ежели орава экая, поить-кормить надо. Гли-ко, Степановна, какая опять беда-то, ведь пятьдесят рублей с лишним заплатили, пятьдесят с лишним, ведь из-за этого она и побежала на ферму-то сразу после родов, уж и Иван-то ей говорил: «Не ходи, поотдохни», – нет, побежала…
– Дак самовары-ти взял?
– Как не взял, взял. И краны Пятак припаял, дак ведь куда нам с самоварами-то? Три самовара теперече. Я уж хохочу. «Давай, – говорю, – открывай чайную в деревне, станови каммерцию».
Евстолья открыла дверку шкапа: в двух отделениях стояли два запаянные Пятаком самовара.
– Добры самовары-ти, – сказала гостья. – А я бы, Евстольюшка, один дак взяла бы, ей-богу.
– Со Христом бери.
– Все и собиралась к вам-то, думаю, и попроведаю и самовар унесу.
– Бери, матушка, бери, и разговаривать нечего.
Старухи уселись чаевничать. Ребенок проснулся в люльке, Евстолья взяла его на руки вместе с одеяльцем.
– Ванюшко ты мой, Ванюшко, выспался у меня, Ванюшко? Выспался, золотой парень, ну-ко, сухо ли у тебя тут? Сухо-то пресухо у Иванушка, ой ты дитятко, светлая свичушка, вон, ну-ко этой-то баушке покажись. Вон, скажи, баушка, я какой!
– Весь-то в дедушка Семена, весь, – сказала Степановна. – А те-то где бегают? В школу-то сколько ходит?
– Ой, и не говори, тут и нагрянут. Анатошка-то уж в шестых, всю неделю в школе и живет, а как придет на выходной, так и заплачет: «Не посылай, – говорит, – бабушка, меня в школу-то, лучше, – говорит, – буду солому возить». Жалко мне, уж так его жалко, с эких годов да в чужих людях, а говорю: «Батюшко, ведь учиться не будешь, дак всю жизнь так зря и проживешь». В понедельник-то рано надо вставать, встанет, пойдет да и заплачет, а я говорю: «Ты уж потерпи, Анатоша, не обижай матку-то, учись».
– От старшей-то, Таньки, ходят письма?
– Как не ходят, вон и вчера письмо пришло, пишет, что, мама, мне напостыло, тоже велика ли, а в чужих людях, ведь уж год скоро, как в няньки отправили, а домой-то охота. Пишет, что прописали, что скоро и паспорт дадут, а потом-то ладит в училище поступать, в строительное, а я-то и говорю Ивану-то, что ехала бы домой, чего по чужой стороне шастать, дак нет, оба с Катериной в голос, пусть, говорят, паспорт получает, чего в колхозе молодым людям?
– А и правда, Евстольюшка.
– Как не правда, только больно девку-то жаль, красное солнышко, поехала-то, дак мне говорит: «Бабушка, я тебе кренделей пошлю…»
– Да с кем уехала-то, с Митькой?
– С Митькой. В отпуск-то приезжал, да и увез, а там место ей нашел, хорошее, люди-то богатые, нарядили ее сразу, два платья ей купили, башмаки, и учиться-то по вечерам велят, а она, красное солнышко, и говорит, что когда уйду, дак и пойду учиться-то, а пока не буду. А ведь как, Степановна, хоть и невелика должность в няньках жить, а все-таки забота, и в магазин ходит, и стирает, и посуду моет, больно уж она у нас совестливая, а люди-то попались ученые, с роялями, да и дома-то мало бывают, он-то все по командировкам, в начальниках, а она, эта, как, всё представленья-то делают?
– Да, поди, в артестах, вроде ряженых, что в Святки ходили.
– Вот, вот, это.
– Дак Митька-то не сулится нонче?
– Как, девушка, не сулится, сулится, беда мне тоже с Митькой-то. Весь измотался, работает по разным местам, да и бабы всё переменные…
Старухам хватило бы разговоров еще на неделю, но тут начали по одному, по два появляться «клиенты» Ивана Африкановича. Первым объявились Мишка с Васькой, и сразу они запросили есть. И Степановна вскоре распрощалась с Евстольей, перевязала самовар полотенцем и пошла домой.
– Приди, Евстольюшка, к нам-то, хоть на ночку приди! – обернулась она еще из сеней. Но она и сама знала, что Евстолья не придет, некуда ей было идти от такой оравы внучат.