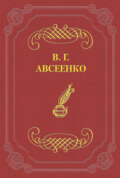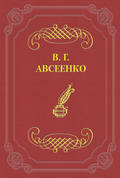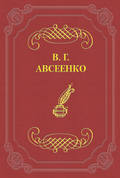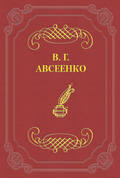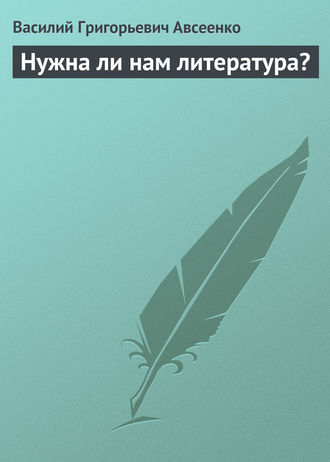
Василий Авсеенко
Нужна ли нам литература?
Мы потому остановились на этихъ прискорбныхъ примѣрахъ, что они очень рельефно характеризуютъ то приниженіе понятій которое въ послѣдніе годы сдѣлалось какъ бы задачей извѣстной части нашей журналистики. Присутствіе идеаловъ, вѣрность неизмѣннымъ, элементарнымъ треобваніямъ искусства, художественное творчество преслѣдуются во всѣхъ областяхъ духовной дѣятельности, какъ нѣчто въ высшей степени враждебное какимъ-то новымъ требованіемъ времени: таланты унижаются съ мстительною злобою и на мѣсто ихъ возвеличивается посредственность, охотно подчиняющаяся требованіямъ газетной моды и руководству невѣжественной критики – литературной, музыкальной и художественной. Вмѣсто дѣйствительныхъ дарованій возводятся на упраздненные пьедесталы крохотные талантики и даже просто бездарности – потому что масса не можетъ жить безъ авторитетовъ, и когда рушатся старые, она требуетъ новыхъ. Удовлетворяя этой естественной потребности, тенденціозная печать спѣшитъ создавать эфемерныя, раздутыя репутаціи, обязательно подставляя ихъ въ отвѣтъ на роковой вопросъ: гдѣ уже дарованія этой новой школы, такъ самоувѣренно обрушившей свои удары на самыя свѣтлыя имена литературныя и художественныя?
Кромѣ этого роковаго вопроса, съ грѣхомъ пополамъ обходимаго возвеличеніемъ приходскихъ геніевъ, естественно представляется также болѣе общій вопросъ: во имя чего принижается и бракуется все талантливое явившееся въ нашемъ духовномъ творчествѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и основныя требованія этого творчества, пріобрѣвшія историческія права гражданства не только у насъ, но и во всемъ цивилизованномъ мірѣ?
Если мы внимательно всмотримся въ то что ежедневно и ежемѣсячно говорится въ петербургской печати по литературнымъ и художественнымъ вопросамъ, сквозь всѣ извороты печатнаго слова мы разглядимъ что приниженіе понятій, преслѣдованіе новыхъ талантовъ и такъ-называемое развѣнчаніе старыхъ совершается не во ими чего другаго, какъ узкаго, мелкаго журнализма, понимаемаго въ смыслѣ бездушнаго проповѣдыванія прогрессивныхъ идей и ежедневной борьбы за мелкіе, частные интересы. Конечно, ни одинъ изъ публицистовъ извѣстнаго лагеря не сдѣлаетъ откровеннаго признанія относительно руководящихъ имъ цѣлей: извѣстно какъ осторожно отмалчивается на этотъ счетъ петербургская печать; но сквозь извороты журнальной полемики и фразистаго либерализма не трудно разглядѣть что подкладкою всѣхъ такъ-называемыхъ высокихъ взглядовъ и разглагольствованій объ общественныхъ задачахъ служитъ именно усвоенное современною печатью узское и мелочное поклоненіе журнализму. Небольшой разборъ одной журнальной статьи, къ которому мы сейчасъ обратимся, вполнѣ оправдаетъ нашу догадку.
Г. Пыпинъ давно уже занимается въ Вѣстникѣ Европы разработкой исторіи нашей литературы и общественности въ текущемъ столѣтіи – съ той точки зрѣнія которая подъ историческою критикой понимаетъ такъ-называемое развѣнчаніе и низведеніе съ пьедесталовъ. Эту точку зрѣнія г. Пыпинъ весьма усердно проводитъ въ наиболѣе распространенномъ петербургскомъ журналѣ, производя въ литературной и общественной исторіи новой Россіи такія же точно опустошенія какія его сотоварищъ по университету и по журналу, г. Костомаровъ, производитъ въ исторіи старой Руси. Коллекція развѣнчанныхъ русскихъ дѣятелей, благодаря этой дружной работѣ двухъ ученыхъ журналистовъ, обогащается съ каждымъ годомъ. Еще недавно г. Пыпинъ развѣнчалъ Карамзина, довольно неожиданно показавъ въ немъ ограниченнаго человѣка и крѣпостника; теперь онъ подвергаетъ той же операціи самое свѣтлое, самое дорогое въ нашей литературѣ имя – Пушкина. Повидимому есть что-то роковое въ этомъ движеніи, болѣе и болѣе овладѣвающемъ нашею журналистикой: разъ вступивъ на этотъ путь, кажется нельзя уже остановиться; по крайней мѣрѣ въ послѣдней статьѣ своей г. Пыпинъ, начавъ низведеніемъ съ пьедестала Пушкина, съ цѣлью подложить его подъ ноги Гоголю, кончилъ тѣмъ что развѣнчалъ и самого Гоголя, чтобы бросить его подъ ноги г. Пыпину, взгляды котораго оказываются неизмѣримо шире и просвѣтительнѣе взглядовъ Пушкина и Гоголя. Приходится думать что оцѣнка литературныхъ, художественныхъ и общественныхъ идеаловъ прошлыхъ десятилѣтій съ высоты современнаго петербургскаго журнализма становится у насъ закономъ, на которомъ думаютъ утвердить новую критику.
Авторъ характеристикъ литературныхъ мнѣній (Вѣстникъ Европы, апрѣль), движимый желаніемъ оправдать Гоголя въ томъ что онъ оказывается ниже Пыпинскихъ воззрѣній, складываетъ всю вину на Пушкина. Пушкинъ и его друзья виноваты въ томъ что Гоголь вышелъ въ своихъ произведеніяхъ недостаточно либераленъ; они привили ему консервативныя идеи своего кружка, поставили его въ близкія отношенія къ высшимъ сферамъ и подтолкнули издать Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. – «Онъ (Гоголь) считаетъ Пушкина своимъ учителемъ, горестно замѣчаетъ г. Пыпинъ; – его друзья – люди Пушкинскаго круга; среди ихъ онъ проводитъ свою жизнь; они считаютъ его своимъ – но тѣмъ не менѣе его дѣло выходитъ изъ ихъ умственнаго и общественнаго горизонта; поэтому самъ Гоголь, привыкшій смотрѣть ихъ глазами, и могъ не уразумѣть вполнѣ того смысла какой имѣли его произведенія для общественнаго развитія. Въ своихъ теоретическихъ понятіяхъ Гоголь отчасти сохранялъ простыя патріархальныя традиціи, отчасти заимствовалъ взгляды Пушкинскаго круга, но въ своемъ творчествѣ онъ уже былъ человѣкомъ новаго историческаго слоя. Его друзья изъ Пушкинскаго круга на первыхъ порахъ поняли высокій поэтическій талантъ Гоголя и его художественную силу – но они не поняли общественнаго значенія его произведеній, и потомъ отступились отъ нихъ, когда сдѣлалось ясно ихъ дѣйствіе на общество.»