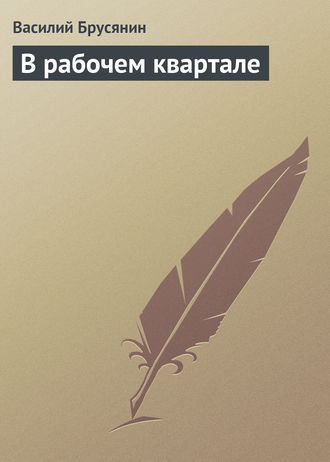
Василий Брусянин
В рабочем квартале
Три поколения
После семи часов вечера, когда возвращается с завода дневная смена, мне надо было побывать в одной квартире. В небольшой и тесной кухне, куда вошёл я, было темно и тихо. В щель неплотно притворенной двери в соседнюю комнату падала узкая полоска света. За перегородкой направо слышался плач ребёнка, и тихая и нежная колыбельная песня нарушала тишину комнат. Из-за полога, отделявшего кровать от остальной части кухни, появилась низенькая женщина. Поправляя на голове растрепавшиеся волосы, она двинулась к полуоткрытой двери, говоря:
– Сюда вот проходите!
Она широко распахнула дверь и, посторонившись, пропустила меня в соседнюю комнату.
У стола, в простенке между окон, где висело небольшое зеркальце, сидел рыжеватый человек, в фуфайке на широких плечах, с тёмными закоптевшими руками и со смуглым от копоти лицом. Он ужинал, очевидно, только что вернувшись с завода. На кровати сидела низенькая, сгорбленная женщина, с морщинистым жёлтым лицом и с добрыми светло-голубыми глазами. Я видел ещё накануне эту старушку, и теперь, увидя меня, она догадалась, зачем я пришёл, и, приподнявшись, проговорила:
– Вот и застали… Гриша, тебя поджидали вчера! – сильно повысив голос, обратилась она к сыну.
Тот молча посмотрел на меня, опустил на скатерть ложку, утёр ладонью усы и приподнялся. Я просил его продолжать ужинать, ссылаясь на желание отдохнуть, и выкурил папиросу.
– Что?.. Не слышу я! Погромче говорите! – начал он.
На этот раз и я повысил голос и ещё раз повторил свою просьбу и желание. Рабочий опустился на стул, продолжая прерванный ужин.
– Устали, что говорить: всё на ногах, – вставила старушка и вышла; немного спустя, она внесла чашку с жареным картофелем и поставила её перед сыном.
– Оглох он совсем! – начала старушка, усаживаясь на прежнее место на кровать; она посмотрела на сына сощуренными глазами и вздохнула.
– Просто беда у нас там! Выйдешь из завода и так… словно ошалелый какой, – заметил и сын старушки. – Я рессорщик… Грохот у нас такой, что не приведи Бог – беда!..
Я понял, конечно, какого цеха человек сидел передо мною. Вдруг всплыло в памяти моей имя рано умершего, скорбного Гаршина и «Глухарь», описанный им. Когда-то, в юности, под влиянием рассказа, мне страшно хотелось увидеть человека, окрещённого этим крылатым словом, – и вот теперь этот «Глухарь» передо мною – и я внимательно осмотрел худощавое и утомлённое лицо Гриши, который с неутолённым ещё аппетитом кончал свой ужин.
– Вот и отец-то тоже… с этим и в могилу сошёл, – тихо, ни к кому не обращаясь, заметила старушка и опять глубоко вздохнула.
– Да?.. И ваш муж тоже хворал? – спросил я.
– Да… да… хворал, сердечный!.. И Гришу-то он же около себя на заводе обучил. – Старушка ещё раз вздохнула и добавила. – Сам-то вот умер, а меня оставил маяться… Лет десять, али больше, совсем глухой был, а в последнее время так и совсем ничего не слышал. Умирает это он, а я стою вот так-то, у кровати. – Старуха повела рукою в сторону. – Спрашиваю его: родной, мол, какой завет перед смертью-то будет? Что, мол, прикажешь сыну-то, какое, мол, ему дашь благословение?.. Так ничего и не услышал, что ни спрашивала. Прошептал что-то этак… голову-то откинул, да и дух вон!..
Старушка смолкла, опустив голову и уставившись в пол грустными глазами… В комнате было тихо, за перегородкой по-прежнему плакал ребёнок, слышалась грустная колыбельная песня. «Глухарь» поднялся со стула, прошёл по диагонали комнаты к кровати, бесшумно ступая ногами, обутыми в чулки, обернулся и посмотрел на меня задумчивыми глазами. После этого он закурил папиросу, подошёл к столу, опёрся руками на спинку стула и громко сказал:
– Вот теперь и меня пропишите!
Я задавал ему обычные вопросы, а он отвечал. Почти каждый вопрос приходилось повторять по два раза. Я никак не мог взять такого тона, чтобы речь моя была слышна; несколько раз и «Глухарь» переспрашивал меня. Вдруг он приложил руки к вискам и прошептал:
– Наклоняться-то нельзя… чуть что – кровь хлынет к голове, и беда… круги, круги в глазах-то…
Он опустился на стул и закинул назад голову. Я смотрел на его, теперь побагровевшее лицо, сощуренные, лихорадочно блестевшие глаза, и молчал.
Когда «Глухарь» был опрошен, я обратился к старушке с вопросом – дома ли кузнец, листочек которого мне ещё не удалось заполнить.
– Опоздали, на работе он… Жена-то вот его, дочь моя, – та дома.
Она вышла, отворила дверку в перегородке и назвала имя жены кузнеца, прося её выйти и рассказать, что следует. Та не сразу согласилась на это, но, однако, вышла, держа на руках завёрнутого в одеяльце ребёнка, который тихо и жалобно хныкал. Двадцатипятилетняя молодая женщина, с бледным худощавым лицом, голубыми глазами, немного ввалившимися и грустными, – стояла передо мною и с каким-то смущением отвечала на мои вопросы.
Я записал всё, что касалось её, заполнил листок, предназначенный для её мужа, и предложил вопрос о ребёнке.
– Его-то разве тоже запишите? – спросила она.
– Да, да, непременно, – отвечал я, стараясь тоном своего голоса успокоить мать, заслыша в её голосе плохо скрытую и непонятную мне тревогу.
– Ну, уж… Что уж!.. Для чего, махонького-то? – забеспокоилась мать.
– Уж и не знаю, что вы! Что его и записывать-то! – вставила неожиданно и старушка, убиравшая со стола остатки ужина.
Я принялся убеждать молодую женщину, что, согласно инструкции, я должен записать и её сына, несмотря на то, что ему всего третья неделя. Она смущённо смотрела на меня и молчала.
– Что уж это! Крошка этакий, чуть на белый свет глянул, а его записывать! – продолжала ворчать старушка, вновь появившаяся из кухни.
Ей пришлось повторить то же самое, что уже выслушала от меня молодая женщина. «Глухарь» всё время стоял покойно у стола и молчал.
– И что вы, барин, выдумываете?.. Не крещён он! – продолжала свои нападения старушка.
– Ну, что уж это, маменька, нужно, так как же? – совсем неожиданно для меня осадила старушку молодая женщина.







