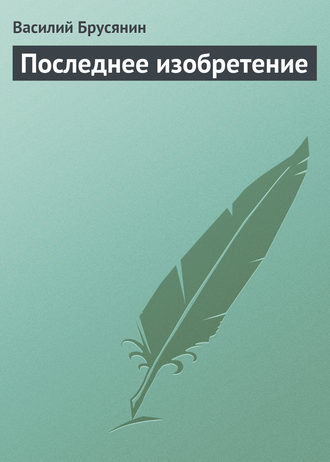
Василий Брусянин
Последнее изобретение
IV
Первое письмо дяди из Москвы всех нас обрадовало. Он писал, что ему удалось познакомиться с каким-то профессором, который вместе с тем был и инженером. Профессор принял дядю даже с большим радушием, внимательно выслушал его и заинтересовался изобретением. Далее дядя описывал Москву, людей, с которыми приходилось встречаться, и всё расхваливал культурную столичную жизнь.
В письме было даже высказано и такое предположение, что если дело пойдёт на лад, и ему удастся устроить своё изобретение и заработать денег, то он перевезёт в Москву всё семейство, Соню и Витю отдаст в лучшие учебные заведения, а сам также будет учиться и готовиться для дальнейших изобретений.
Второе письмо дяди было уже немного пониженного тона. Прежде всего он жаловался на московских деловых людей. «Уж очень много они говорят о деле и красно говорят, а самого дела собственно не делают», – писал он.
Возмущался он также и тем, что к его планам отнеслись формально, заставили его составить обширный доклад по поводу изобретения и прочесть его публично на заседании каких-то учёных. С этого-то вот доклада и начались все несчастья дяди. Какой-то всеми уважаемый профессор и тоже специалист по воздухоплаванию стал нападать на дядю и быстро сбил его с позиции.
Дядя чистосердечно признался своим судьям, что он – человек необразованный, кончивший всего-то шесть классов гимназии, и что поэтому их научным доводам он затруднялся противопоставить какие-либо веские аргументы. К этому заявлению дяди придрались учёные люди и в деликатном выражении назвали докладчика «неучем», а его доклад – «пустой болтовнёй невежественного человека».
«Может быть, они и правы, – писал в своём письме дядя, – я, действительно, плохо знаком с наукой и не сумею доказать многого, очевидность чего для меня несомненна. Я просил у них казённого пособия рублей 400–500, чтобы на эти деньги устроить модель, и тогда я сумел бы показать, что мои планы на изобретение – не химера, не плод больного воображения, а они требуют от меня, чтобы я доказал им свои положения теоретически, с разными математическими выкладками и рассуждениями… Должно быть, моему изобретению суждено умереть вместе со мною».
Такой печальной фразой закончил дядя своё письмо, а через несколько дней приехал и сам.
Впоследствии дядя рассказывал, что на том же собрании учёных, где осмеяли его, он познакомился с одним студентом, с которым и подружился.
Студент подошёл к дяде, возмущённый поведением профессоров, и воскликнул:
– Мне всё время хотелось обозвать их подлецами! Что же они хотят от вас? Ведь у них есть деньги, из которых они могли бы дать вам 400–500 рублей для устройства модели, но они не сделали этого и не сделают, потому что сами невежды, рутинёры, трусы. Они никогда не были смелыми в науке и всё время тащились в хвосте знания. Нашим русским изобретателям уж такая доля: на родине их не признают. Ну, что ж, надо ехать за границу, и я советую вам сделать это. Вы там продадите ваше изобретение, а потом мы же, русские, будем покупать их из чужих рук втридорога. Так уже скверно сложилась наша жизнь, ничего не поделаешь!
V
В первые же дни по возвращению из Москвы в характере и поведении дяди стали наблюдаться некоторые странности.
Раньше в периоде запоя дядя, обыкновенно, сидел дома, а теперь он исправно посещал управу и хотя, как говорили его сослуживцы, плохо работал, но всё же считал своим долгом быть на службе. Теперь его стала беспокоить мысль, что управское начальство недовольно им, благодаря его запоям и отпускам.
Из двухсот пятидесяти рублей, взятых на дорогу, дядя израсходовал только половину, а вторую половину по приезду передал тёте Соне и потом по несколько раз в день подходил к жене и спрашивал, получила ли она деньги.
– Получила, голубчик, получила! Ты меня несколько раз спрашивал, – отвечала тётя.
– То-то… Ты, Сонечка, береги деньги… Я глубоко виноват перед семьёй, что позволил себе зря израсходовать больше сотни, но уж так скверно вышло. Я никогда не думал, что дело кончится этим…
Вскоре после этого дядя запил окончательно, дней пять не ходил в управу, потом дня три хворал и, наконец, оправился.
С этих пор для дяди началась новая жизнь. Он перестал говорить о своих изобретениях и целыми днями сидел у себя и писал. Как-то раз тётя Соня спросила его, что он записывает в толстую тетрадь в синей обложке.
– Пока это секрет, а потом… потом мои мысли прочтут и убедятся, все убедятся, что я – не невежда, не сумасшедший… да…
– Володя, но кто же тебя считает сумасшедшим? – прервала его тётя Соня.
– Ты, я знаю, не считаешь меня таким, а есть люди… есть… Им кажутся сумасшедшими все, кто осмелится сказать что-нибудь не шаблонное, а своё, новое и оригинальное. Сумасшедшими считали: Галилея, Коперника и Христофора Колумба, а теперь люди не могут выдумать способа, чем бы отметить их величие… Такова судьба всего нового… Заурядные люди задаются вопросом о жизни и робко ищут чего-то и осматриваются, и вместо разрешения вопроса видят только рисунок на обоях своих комнат, узоры на окне, дверь: дальше пределов их обиталища их фантазия не двигается!.. А люди большего калибра, поэты, фантазёры – те и небо видят в другом свете, видят и понимают игру звёзд, и даль моря доступна их очам, понимают они и глубину земли…
Мы все слушали рассуждения дяди Володи и недоумевали: раньше он никогда не говорил этого и никогда так не нервничал во время своих рассуждений как теперь.
Как-то раз дядя пришёл к нам после вечернего чая. В тот день у нас во дворе все говорили о смерти служащего управы Козлова. Бедный труженик умер, оставив без всяких средств жену и пятерых детей. Все мы жалели сирот и их несчастную мать.







