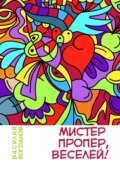Василий Богданов
Бунтующий Яппи
В назначенный день Замша вышел в центр комнаты в зале судебного заседания, встал за кафедру и внимательно оглядел судей в мантиях. Он немного волновался, но не испытывал обычных затруднений с речью. Юридический язык был той стихией, в которой он, пожалуй, чувствовал себя комфортнее, чем в стихии разговорного языка. Он начал говорить и сам поражался ясности своей речи, лёгкости аргументирующих конструкций, изяществу, с которым разбивал доводы оппонентов.
– Остановитесь на минуту, – прервали его. Он взглянул на судей, и его язык прилип к нёбу. Двое дремали, уронив голову на грудь. Остальные с отсутствующим видом разглядывали его. Ему вдруг показалось, что перед ним не люди, а соломенные чучела. Он даже поймал себя на желании подойти к одному из них и потыкать вилами в бок.
– Есть вопросы к представителю? – спросил председательствующий.
Дремавшие чучела открыли глаза, остальные неловко заёрзали.
– Ну хорошо, тогда у меня вопрос, – обратился к нему председательствующий, и Замша приготовился к изощрённому экзамену.
– Скажите, уважаемый представитель, вы считаете, что ваши требования справедливы? – услышал он и, поражаясь бесцельности вопроса, механически ответил:
– Да.
– Спасибо. Если у вас всё, можете присесть.
– У меня всё, Ваша честь, – сказал Замша и, закрыв папку, уселся на своё место.
Дело было выиграно, но Замша не испытал никакого удовлетворения от победы. Сразу после того, как он вышел из здания суда, у него зазвонил мобильник.
– Ну как? – спросил Шеф.
– Победа, – коротко констатировал Замша.
– Уф-ф-ф, – запыхтел Шеф. – Ну, слава Богу! Уф-ф-ф. Серьёзные люди постарались. Из Москвы звонили. Уф-ф-ф. Уф-ф-ф-ф. Уф-ф-ф.
Сидя в кресле после обеда и вспоминая радостное пыхтение Шефа в телефонной трубке, Замша осознавал, что и сам был чучелом, куклой в разыгравшемся фарсе под названием правосудие, глянцевой журнальной картинкой, изображавшей молодого преуспевающего стажёра адвоката в тёмно-синем костюме и галстуке цвета «аделаида». От таких мыслей начиналась депрессия, и хотелось выпить. Жизнь представлялась чередой однообразных и бессмысленных событий, – таких же, как траектория полёта надписи «Вечный ОМ» на экране монитора.
Посидев минут двадцать, Замша решительно поднялся и отправился к Шефу требовать прибавки жалованья.
Шеф, как всегда, задумчиво курил за большим лакированным столом.
– Николай Николаевич, – с порога начал Замша, – я тут. Дело тут.
– Ух, ты, новый галстук! – Шеф вскочил из-за стола и подбежал к Замше, пыхая сигаретой. – Классный галстук. Вот это молодец! Только дай-ка. – Он подтянул ослабший узел. Замша стоял и густо краснел. Ему было неловко оттого, что шеф возится с его галстуком. Сам шеф носил костюмы и галстуки от Zegna.
– Вот… – Шеф отступил на полшага, любуясь. – Совсем другое дело!
– Николай Николаевич, помните то большое дело, которое вы мне дали?
– Конечно, помню! Что там? – с интересом спросил Шеф, тяжело погружаясь в кресло.
– Документы сданы в налоговую. Сегодня утром.
– Да ты что? Молодчина! Глеб Андреевич! Молодчина! Дай-ка я… – Шеф перегнулся через стол и принялся жать Замше руку. – Я в тебе ни минуты не сомневался!
– А, это…
Замша осторожно присел на краешек стула и отчётливо произнёс:
– Я ещё вот что, Николай Николаевич.
– Что? – Шеф покрасневшими глазами посмотрел на него сквозь дымовую завесу.
– Николай Николаевич, мне бы… – В этот момент у Замши внезапно зачесалась левая голень, и он, резко нагнувшись, принялся её скрести. – Мне бы оклад, – донёсся до Шефа снизу его охрипший голос. Шеф, затушив сигарету, медленно произнёс:
– Вот смотри.
Замша выпрямился и заинтересованно наблюдал, как волосатая рука Шефа, высунувшись из манжеты и брякая по столешнице «Роллексом», рисует на листке бумаги окружность.
– Это мы. Наша коллегия, – сказал Шеф и вонзил карандаш в центр окружности.
Замша кивнул.
– В отличие от других контор мы клиенту оказываем целую кучу услуг, – продолжал Николай Николаевич. – Тут у нас и гражданские дела, и уголовные, и недвижимость, и ценные бумаги, и готовые фирмы, и банкротство, – остро отточенный грифель стремительно делил окружность на сектора, – и исполнение решений, и ещё есть свой нотариус, если нужно, и аудиторы, которые тебе какую хочешь проверку проведут, и эксперты по транспортным происшествиям. Короче, – Шеф хитро прищурился, – если человек к нам в лапы попал с одной бедой, мы его от всех других хлопот избавим, пусть только денежки платит. Где ещё есть такие конторы, как наша?
– Нигде, – согласился Замша и добавил: – В нашем городе.
– Но!.. – Шеф поднял вверх указательный палец. – Все эти наши отделы нужно координировать!
– Да, – кивнул Замша.
– Иначе всё развалится. А ты молодой талантливый парень с высшим образованием, так?
– Ну, да, – снова согласился Замша.
– И я не хочу, чтобы ты ходил всю жизнь в исполнителях.
– Понимаю.
– А ты мыслишь мелко. Как исполнитель. Сечёшь?
– Не совсем, – виновато пробормотал Замша.
– Оклад! – передразнил его Шеф. – Ну, добавлю я тебе оклада тыщи две, что это тебя спасёт? Оклад! Оклад – это тьфу. Это крошки с чужого стола, понял?
Замша молчал, не поднимая глаза на Шефа, и сильно потел.
– Исполнителей вон полно кругом, как грязи, а светлых голов единицы. А я вижу твой потенциал. – Рука Шефа прочертила в воздухе траекторию взлетающей ракеты. – И хочу сделать из тебя толкового руководителя, понимаешь? Я для этого тебя начальником и поставил пока что на «корпоративку». Кстати, как там твои бабы работают?
– Да как, работают вроде… – Замша посмотрел на огромный, писаный маслом портрет Дзержинского, висевший у шефа за спиной. Когда-то давно этот портрет Николаю Николаевичу подарил некий музейный работник.
– Ты давай там загружай их побольше. Нечего им расслабляться.
– Так я и загружаю.
– Загружаешь?
– Загружаю.
– Никому ещё промеж ног не загрузил? – неожиданно поинтересовался шеф и гоготнул, а Дзержинский похотливо подмигнул Замше из-за его спины. – А то они все разведёнки, все без мужиков, жадные до этого дела, ух! – И шеф собрал пальцы в кулак.
Замша поперхнулся и покраснел до корней волос.
– Да ладно, шучу же с тобой, – расхохотался Николай Николаевич и ткнул Замшу карандашом в плечо. – Я только одного хочу: чтобы ты со всеми своими свежими идеями приходил ко мне, – доверительно продолжал он. – Вы же, молодые, крутитесь везде. За вами, в конце концов, будущее, а не за мной.
– Так я, вроде, и прихожу, Николай Николаевич.
– Ну я и говорю. Приходи. А уж я помогу, чем надо. Деньгами или влиянием. Я вообще вот что хочу… – Шеф придвинулся ближе и перешёл на доверительный шёпот. – Я рано или поздно хочу в Испанию уехать и жить там. От дел отойти. Надо же будет кого-то во главе коллегии оставить, все связи передать и так далее. Почему не тебя? Нет, я сейчас не загадываю, но почему не тебя? Ты подумай. Буду просто тогда платить тебе не оклад, хм, – он иронически хмыкнул, – а процент с прибыли. А? Как тебе? Лучше, чем оклад? Или нет? Или тебе оклад? Оклад или проценты? Крошки или Кусок пирога?
– Ну, было бы здорово… – Замша пожал плечами и посмотрел на кончики своих ботинок.
– Что здорово?
– Ну, кусок пирога.
– Добро, – кивнул шеф. – Добро. Я знал, что ты парень толковый. Так что иди пока, подумай.
– Я подумаю, – ответил Замша. – Но всё равно заранее спасибо, Николай Николаевич.
– Не за что, не за что. Молодым, как говорится, везде у нас дорога. – Прикуривая новую сигарету, Шеф благодушно улыбнулся, показав крупные жёлтые зубы. – Ты только это самое. Ты подумай насчёт… – Он покрутил в воздухе пальцами.
– Я подумаю, спасибо, – взявшись за ручку двери, ответил Замша.
– Подумай! – вдогонку крикнул шеф.
– Подумаю, – уже из коридора бросил Замша и, закрыв за собой дверь, понял, что снова не договорился с шефом об увеличении оклада.
Досадуя на самого себя, Глеб посмотрел на часы. Желания оставаться на работе больше не было, поэтому он вошёл к себе в кабинет, сделал вид, что собирает в дипломат деловые бумаги, а после, сославшись на несуществующий судебный процесс, покинул офис и отправился на встречу со старым школьным приятелем.
IV
Граф Толстой
И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы ещё более сблизить их, но что каждый думает только о своём, и одному до другого нет дела.
Л. Н. Толстой «Анна Каренина»

User: Graf Tolstoy
Более всего люблю я те места Торговой стороны старого Екатеринбурга, где под вывесками современных магазинов сохранился ещё нетронутым дух купеческого сословия: Покровский проспект, Купецкую слободу, Симановскую, Уктусскую и, в особенности Успенскую, улицы. Таков был когда-то русский город: низенькие особняки не заслоняли бескрайнего неба, в котором блистали только маковки церквей, размером казавшиеся с булавочную головку, и глаз человеческий чаще обращался ввысь, к горнему миру, а православная душа устремлялась к Богу. Степенно прогуливались по широким улицам пешеходы да изредка проезжали запряжённые тощими лошадёнками телеги. Суетные звуки не нарушали разлитой окрест тишины, и лишь колокольный звон плыл над крышами в строго означенные часы. А какие названия певучие были у улиц! Покровский проспект, Купецкая слобода, Успенская улица – совершенная музыка!
В последнее время я часто поджидал Замшу неподалёку от перекрёстка Симановской и Успенской улиц, там, где располагался бывший дом городского головы И. И. Симанова, весь покрытый ажурною лепниною в стиле французского рококо, и в голову мне приходили мысли о том, что хорошо было бы жить в эдаком вот доме, чтобы летом каждое утро в мягких турецких туфлях с загнутыми носами, халате и ночном колпаке, с кружкою кофию в одной руке и курительною трубкою в другой, выходить на балкон, украшенный затейливейшей чугунной решёткой (сказалась местная традиция), и, щурясь, глядеть, как лениво почёсывается сидящий на козлах ямщик, ожидающий меня у парадного, как торговый люд снуёт по Успенской улице мимо вывесок вроде: «Нитки», «Бумага», «Складъ», как оборотистые купчики открывают свои лавки, расположенные в цокольных этажах собственных усадеб. У меня и у самого было бы несколько табачных да мясных лавок где-нибудь на Торговой площади подле Мытного двора, где в то время помещалась гостиница «Рим», и я бы рассеянно улыбался, мысленно подсчитывая барыш, а дети мои, выбежав на балкон и окруживши меня, с криками: «Тятя, тятя!» – дёргали бы за кисти моего халата. Следом за ними появлялась бы моя супружница, женщина вполне кустодиевского склада, высокая, полная, с круглым белым лицом и маленькими вишнёвыми губами, и одаривала бы меня спелым и сочным поцелуем.
Замша являлся, по обыкновению, с опозданием и своим появлением развеивал мои сладкие мечтания. Он подчёркнуто высокомерно носил серое, мышиного цвета пальто с английским воротом, щеголеватый тёмно-синий строгий костюм в полоску, сшитый из тонкой шерсти, и чёрные остроносые итальянские ботинки на тонкой кожаной подошве. Пуговицы пальто были небрежно расстёгнуты, как и нижняя пуговица пиджака, а галстук цвета «аделаида» повязан был чрезвычайно крупным узлом, который с трудом умещался даже под тупоугольным итальянским воротничком. В левой руке Замша крепко сжимал кожаный дипломат. Без этого чёрного прямоугольного предмета чувствовал он себя неуверенно, но стоило его пальцам плотно сомкнуться вкруг гладкой кожаной ручки и ощутить направленную к земле тяжесть, как спина его выпрямлялась, походка становилась упругою, а во взгляде сквозил холодок. Дипломат словно был неотъемлемой частью его руки, главной деталью всего облика Замши. Привлекая внимание своей массивностью, своими правильными острыми очертаниями, своей чернотой с зеркальным отливом, холодным блеском металлических кодовых замков, Дипломат незаметно совершал подмену и сам становился Героем, а Замша превращался во второстепенное дополнение к нему. Мне горько было наблюдать, как старинный мой школьный приятель, с которым мы, случалось, обсуждали тайны мирозданья, сидя после уроков у меня на кухне, который бился в поисках смысла жизни и высказывал порой нетривиальные суждения о бытии, всё более и более обращался в пустой тёмно-синий деловой Костюм и чёрный кожаный Дипломат.
Встретившись, я и Замша приветствовали друг друга на старинный манер, и это приветствие задавало тон всей остальной беседе, которая лилась плавно и неторопливо и напоминала речь персонажей классических русских романов. Традиция эта повелась, кажется, с тех пор, когда случайно в каком-то из закоулков мы набрели на киоск, где продавалось разливное пиво. Киоск прятался под резными кленовыми кронами и видом своим напоминал не то маленький сказочный терем, не то пчелиный улей. У круглого оконца нетерпеливо жужжали потрёпанные жизнью, густо обросшие волосом господа. В руках у них, будто бы по щучьему веленью, возникали грязные пол-литровые кружки, полные вулканически пузырившегося напитка, и ноздреватая пена, вздуваясь белоснежною шапкой, тяжело опадала вниз по толстым стеклянным стенкам. Господа дули на пену, отчего её хлопья летели в разные стороны, и не спеша, с серьёзными и даже чуть хмурыми лицами утоляли жажду. Господи! Какая же вдруг при виде их резала душу меланхолия! О, где же те времена, когда мой батюшка готов был с шести утра занимать очередь за разливным «Жигулёвским»?! И я тянул Замшу к сказочному улью, к самому оконцу, в котором добрые красные руки продавщицы тотчас услужливо отвинчивали кран, и пиво пенной струёю щедро хлестало в вовремя подставленный целлофановый пакет, сначала безвольно повисавший в сильных пальцах, а затем на глазах обращавшийся в плотный золотой пузырь.
– Ого-го-го, – обернул я к Замше предовольнейшую физиономию. – Ну и дела, стало быть!
– Что же такого? – изумился он.
– А пиво-то у них, вообрази, называется «Граф Толстой»!
– «Граф Толстой»? – переспросил Замша и, хохотнув, добавил: – Во дают, черти полосатые, «Граф Толстой» – классическое!
Пиво имело своеобразный, далеко не классический вкус и ещё более необычное послевкусие, и, вероятнее всего, мы не стали бы его пить во второй раз, если бы оно не придавало какую-то витиеватость нашей речи и не делало её похожей на речь персонажей классических русских романов. Открыв необычные свойства пива «Граф Толстой», мы всякий раз наведывались сперва к волшебному киоску, а затем уж искали какой-нибудь уединённый двор, где сохранился прежний, знакомый нам с детства уклад, где были песочница и грибок, качели и футбольный корт, где сушилось на верёвках бельё и где, казалось, печально звучала одна пронзительная ностальгическая нота. В таком дворе обыкновенно скамеек не было и в помине, и мы усаживались на какую-нибудь корягу, засыпанную опавшими листьями. Замша неохотно отпускал дипломат и некоторое время изрядно переживал за своё дорогое пальто и костюм из тонкой шерсти, то и дело снимая с лацканов прилипшие веточки и листья, но, употребив первые пол-литра, принимал положение совершенно расслабленное и забывал об одежде.

User: Zamsha
– Скажи, а давно ли ты был с женщиною? – спрашивает Илья. Улыбается зверски, во весь рот. Улыбка раздвигает заросли на роже, густые, русые с огненными прорыжинами. В школе и кличка у него была Рожа! Зубы крепкие, белые, ровные, сверкают. Что хочешь жернова перемелют. Давно ли был с женщиной? Какого чёрта ему интересно? Его зубы хищно кусают пакет с пивом, крутят, рвут целлофан. Тьфу! Изжёванный кусочек целлофана на землю летит. Пенный фонтан бьёт из дыры. Он пьёт жадными крупными глотками. Пиво струится по подбородку, оседая в бороде. Несколько капель попадает на воротник. Ему не страшно. Рубашка джинсовая. А мне надо аккуратнее. Пальто. Пиджак из тонкой шерсти. Рубашка «Даниель Эштер». Чёрт!
– В каком смысле?
Зачем я переспросил? И так понятно. Чтобы время оттянуть, наверное.
Илья разулыбался ещё шире:
– В прямом.
В прямом. Когда я последний раз спал с женщиной? Никогда. Правду сказать? Раздражает его наглая напористость, с которой он лезет. Облитый пивом жирный подбородок. Жирный потный загривок. Он изменился. Обыкновенный грубый мужик. Любитель дешёвого пива.
– У меня ничего такого с женщиною ещё не было. – А почему так виновато? Чёрт! И глаза у меня почему-то бегают.
– Как же не было? – Губы его разрумянились и блестят от пива. Сверкают и глаза, маленькие, умные, из-под глыбистого тяжёлого лба. – В двадцать четыре года ты ещё, стало быть, девственник?
– Выходит, так.
– А как входит? – хохочет. Зачем я сижу с ним на этой коряге?
– В чём дело, дружище? – это он меня. И рукой по плечу. Дружище?
– Ну, не знаю. Честно признаться, не умею я с ходу раз и готово, – опять отвожу глаза. Он смотрит насмешливо. Жирные складки на подбородке. Языком ощупываю коренной зуб. С-с-с-с. Кажется, кариес. Что это? Кусочек мяса застрял. С обеда. Он следит внимательно. Всё замечает. И моё смущение тоже. Что-то надо сказать.
– Я ведь не подросток уже, у которого гормоны кипят, – поспешно объясняю и будто оправдываюсь. Чёрт! – Мне женщину надо сперва хорошенько узнать, привычки её, прихоти. В душе разобраться, в характере, а потом уж и к делу.
– И к телу! – сверкает крепкозубой белокипенной улыбкой. От пивной горечи язык будто съёживается во рту. Тело.
– Тело у всех одно и то же с небольшими, быть может, особенностями. Душа! Вот что женщину отличает одну от другой. А как сексуальные объекты все женщины одинаковы и мне абсолютно неинтересны. – Вот это я загнул!
– Позволь же не согласиться с тобою! – расправляет усы. – Тело у каждой – особенное, – с каким-то трепетом в голосе произносит. – Даже половой орган уж, казалось бы, насколько должен быть одинаков, а и то у каждой женщины имеет он свои неповторимые черты! Чего уж говорить о любви. Одна в постели рычит, другая стонет, третья мяукает, одна закрывает глаза, другая держит их открытыми – целое море различий. Как в музыке: всего семь нот, а из семи нот сколько мелодий! Надо только уметь играть. Надо уметь пальцами пробегать по струнам. – Его пальцы шевелятся, будто и вправду под ними струны. – Улавливать ритм, слышишь? Женщина – это музыкальный инструмент. Умеешь играть – услышишь музыку, не умеешь – будешь всю жизнь извлекать одну и ту же постылую гамму. – И он, довольный сравнением, отхлёбывает пиво.
Пошлое довольно сравнение. Избитое к тому же. Женщина – инструмент. Гитара? Скрипка? Виолончель? Какой бы ни был, но всё равно инструмент. Инструмент для кого? Будто у женщины нет души.
А характер, – добавляет Илья, – характер у каждой женщины одинаковый. Скверный и бабский.
Циник! Пиво льётся мне под язык. Язык развязывается. Хочется откровенничать. И я говорю не спеша, лениво ворочая тяжелеющим языком, снова пью, и на губах выступает горечь, и голова, слегка хмелея, гудит, как колокол, и душа ширится и растёт, обнимая двор, в котором мы сидим, а двор обнимает нас за плечи, а дома обступают двор, а небо висит над домами, как серенькая тряпица на верёвке, и точно такая же тряпица висит на одном из балконов одного из домов, воробьи прыгают по асфальту, подбирая крошки, я наблюдаю воробьёв, а воробьи наблюдают меня. Подбирая слова с самого дна моей души, откровенный и искренний, как никогда, я несу их Илье.

User: Graf Tolstoy
До чего же чудесен и тих глухой осенний двор, окружённый брежневскими домами! Теперь, в начале ноября, он лыс и гол, и весь подёрнут сизой старческой дымкой, висящей вкруг скрючённых чёрных стволов. А каких-то две недели тому назад здесь царила пышная золотая осень. Старые канадские клёны будто бы были погружены в дремотное солнечное облако, в просвеченной насквозь лимонной сердцевине которого темнели их стволы и прихотливые рисунки ветвей. Рядом с клёнами свежо розовели прихваченные первым морозцем, курчавые, как головы цветной капусты, яблони, соком исходили оранжевые, словно тыквы, боярышники и баклажанного цвета рябины, густо обсыпанные тёмно-красными гроздьями ягод – всё было спело и пышно и напоминало плодовые и цветочные горы, высоко наваленные на прилавки осенних базаров. А сейчас, увы, от былого великолепия осталась одна только бурая слякоть у нас под ногами и голые, жмущиеся друг к другу от холода одинокие стволы.
– Я, кажется, иначе совершенно устроен, чем ты, – с каким-то воодушевлением рассказывал слегка захмелевший Замша, и парок выходил у него изо рта. – С одной стороны, я часть всей той глупости, которая называется половыми отношениями. Потому что ведь, согласись, глупо выглядят со стороны эти жалкие механические движенья! В них же ничего нет человеческого. Туда-сюда, туда-сюда, как какой-нибудь заведённый поршень в машине. Просто реализуется заложенная программа.
Слушая его, я наблюдал за тем, как осенний двор пересекала молодая женщина в коротком бежевом пальто. Цоканье её каблуков вспугнуло воробьёв, и они взметнулись лёгкою серою стайкой. Её длинные сильные ноги, будто ножницы, энергичными взмахами резали воздух.
– Я сам принадлежу к агрессивному полу, я по эту сторону черты, в стаде задиристых самцов, – доносился до меня взволнованный голос Замши, – но при этом я не вожак, не альфа-зверь. Мне природа будто не додала агрессивности, поэтому я испытываю неприязнь к такого рода занятиям, как, скажем, спорт, секс, политика, ко всему тому, где выигрывать надо, насиловать или побеждать.
Я насмешливо поглядел на приятеля, и он, смущённый моим взглядом, отвёл глаза в сторону и языком принялся ощупывать одну за другою коронки своих коренных зубов. Пальцы его неуверенно мяли пакет с пивом. Иногда Замша напоминал мне плотно укупоренную бутылку архивного вина, которое постепенно превращается в смолу, не испытывая внешнего воздействия.
– Ну разумеется, ты иначе устроен! – воскликнул я с улыбкою. – Ты не такой как все! И не думай, пожалуйста, что ты первый дошёл до этого. Каждому человеку свойственно заблуждаться насчёт собственной индивидуальности. Между тем истина состоит как раз в том, что все мужчины одинаковы и все женщины тоже. Мужчина и Женщина только отличаются друг от друга, потому что Господь Бог так устроил. – И я отхлебнул прохладного пива.
Вереницы солнечных пузырьков, будто мальки, играли друг с другом в илистой мгле на дне пакета, всплывали и постепенно сливались в один большой пузырь. Ветер кружил по двору остатки опавших листьев.
– Но ты же вот только что говорил совершенно обратное! – удивился Замша. – О том, что нет одинаковых женщин, и каждая ведёт себя в любви по особенному!
Дверь одного из подъездов отворилась, выпуская коренастую старуху в домашнем халате и шерстяной вязаной кофте зелёного цвета. Грубое её, почти мужицкое татарское лицо ничего не выражало, а жиденькая седая косичка топорщилась сзади кисточкою. На плече у старухи, переломившись пополам, покоился свёрнутый в трубу палас с желтоватыми подтёками крепко въевшейся, очевидно, кошачьей мочи. Хмелевая горечь таяла у меня во рту.
– Я говорил о том, Глеб Андреевич, – отвечал я, – что нету на свете одинаковых женских тел, что же касается душевного устройства, то оно у всех женщин абсолютно одинаковое и у всех мужчин тоже.
Скрип и хлопанье затворившейся двери напугали охотившуюся на воробьёв кошку, которая шуршащей крапчатой тенью шмыгнула в подвал.
– Но вот же я! – горячился Замша. – Вот я – человек, абсолютно тебе противоположный, не похожий на тебя ни малейшим образом!
– Ошибаешься, братец ты мой. Мы с тобой – два сапога пара. Мы похожи с тобой, как две капли перцовки. Ты просто ещё не знаешь этого, потому что не пробовал жизни. Попробуешь и поймёшь, что такой же.
– Что же это означает, позволь спросить? Я что же, по-твоему, не живу теперь?
– Живёшь, но как-то отстранённо. Как зритель, которому очень хочется быть актёром, но который боится, что ему не хватит мастерства, и потому не выходит на сцену. А жизнь такой трусости не прощает. Жизнь любит смелых. Тех, кто испытывает себя постоянно. Их она награждает. Вот я, например, вчера был с такой потрясающей женщиной! – Я улыбнулся широко во все зубы и с вызовом поглядел Замше в глаза. Мне вспомнился вдруг вчерашний сказочный вечер. Как люлька, качалась уютная комната-келья, оплывала на блюдце свеча, и похожий на монаха плюшевый заяц таился где-то в тёмном углу на её кровати. Воспоминания детства прятались так же точно в закоулках её сознания. Напряжённо звенела тишина, она размешивала ложечкой сахар на дне кружки, а потом звон перешёл в тихий шёпот и розоватую нежность, в море зыбящихся округлостей, которое тёплой волной накрывало меня, густое и вязкое, как желе. Несколько раз я вздрагивал, качался и, наполнившись до краёв, падал опустошённый, забывался, чтобы воскреснуть с чувством выжигающего стыда.
– А как же Таня? Твоя жена? – с наивным возмущеньем спросил Замша.
– А что жена?
– Выходит, ты изменил ей, и тебе не стыдно теперь?

User: Zamsha
– Какой стыд, там такие сиськи! – бодро хохочет Илья и с удовольствием мнёт целлофановый пакет с остатками пива. Опять эти зубы и подбородок! Бородатые щёки горят, будто обсыпанные медной стружкой. Здоровая кровь прилила. Румяный свежеиспечённый калач! Рассказывает мне сейчас. Доказать хочет, что полноценный самец! Как с ним Таня? С этим животным?
– Хотя чего уж там греха таить, стыдно, конечно, – помолчав, кивает головой и тут же: – Но это глупый, какой-то ненужный совершенно стыд! И я знаю, кто в этом виноват. Всё он.
– Кто?
– Антуан де Сент-Экзюпери!
– Хм?
– Мы в ответе за тех, кого приручили. Это как болезнь. Я чувствую за Таню ответственность, хотя должен ли?
– Экзотическая французская болезнь – экзюперизм.
– Вот-вот! Экзюперизм! – радуется Илья. – Сам придумал?
– Ага, только что.
Упц! Упц! Что за хлопки? А. Старуха-татарка ковёр хлопает. Звонко и сочно лупцует. Упц! Упц!
Кто я? – Точно поезд грохочет у меня в голове. – Неполноценное животное. Неудивительно, что Таня с ним. Он-то ласкает её, маленькую, мнёт ручищами, терзает всю ночь, обдавая жаром своего дыхания, шоркая до красноты щетиной. Он растоптал её, унизил, уничтожил и снова слепил, и, рождённая вновь, утром она засыпает у него на плече, другая, преданная ему до конца, для него лишь предназначенная, благодарная.
– Отчего только все женщины так ко мне привязываются? – смотрит на меня умными ярко-голубыми в тёмно-серую крапинку глазами. Как у камышового кота. Будто сам не знает. – Ведь я же во всех отношениях сволочь! Возьмём хоть вчерашний день. Я изменил жене. И ты спрашиваешь меня: «А как же Таня?» И я вчера себя об этом же спрашивал. Ты не думай, я ведь тоже не скотина. В Бога верую и прекрасно понимаю, что такое грех. Казнился страшно. Она же, ну как назло, ластится ко мне, точно кошка! Что же я? Посуди сам: не мог же я во всём чистосердечно признаться, но и тайно виноватить себя не мог. И знаешь, что я сделал? Я как подлец поступил. Использовал какой-то незначительный предлог и Таньку довёл до того, что она разозлилась, наговорила мне грубостей разных. А мне же только того и надо. У меня повод появился на неё наорать и почувствовать себя правым во всех отношениях. Вот. Она тоже в крик, в слёзы. Истерика у неё, а я знай себя подстёгиваю. Эх, понеслась душа в рай! И я вот сейчас думаю: то ли я сделал, когда женился на ней? Разве нужен ей молодой негодяй вроде меня? Нет. Ей человек серьёзный нужен, лет на пять постарше. А я ей только жизнь порчу. Иной раз думаю: а может, была не была, разбежаться нам в разные стороны, а то потом поздно будет. Взять так и, знаешь, как топором, жахнуть со всего размаху – ухожу, мол, и точка!
Наконец-то! Наконец-то! Илья, тот самый, мой друг, проглянул сквозь зверскую личину, сквозь довольную улыбку бабника и жирный подбородок. Русская душа. Терзается. Исповедь и Самобичевание. Как у Достоевского.
– Да как же уйти? – спрашиваю его. – Ведь вы уже сколько лет женаты? Пять или шесть?
– Шесть, – отвечает, – и сегодня у нас, представь, годовщина!
– Точно! Да как же это я забыл!
– А я не забыл, – говорит и глядит куда-то в сторону. – Я сделал вид, что забыл.
– Постой! А Таня, она же помнит. Она-то, наверняка, хотела бы как-нибудь отпраздновать.
– Она-то хотела, да я не хочу. Вот в чём фикус.
Он невесело усмехнулся.
– Что ты делаешь, Илья? – спросил я серьёзно.
– Пиво пью… – Он поднял вверх мешок с пивом, иллюстрируя свой ответ.
– Ты же сам всё разрушаешь!
– Всё и так уж давно разрушено.
– Почему? – горячо удивился я.
– Потому что я не хочу свою жену. Потому что невозможно хотеть одну и ту же женщину шесть лет подряд, и моей вины в том нет. Просто всякий мужик так устроен.

User: Graf Tolstoy
– Вот видишь, вот видишь! – неожиданно торжествующе вскричал Замша, будто бы уличил меня в преступлении. – Это только лишний раз подтверждает!
– Подтверждает что? – опешив, не понял я.
Я ожидал от Замши чего угодно: сочувствия, упрёка, дружеского совета – но только не того, что слова мои будут использованы против меня же в качестве аргумента в нашем споре о женщине.
– Все твои проблемы оттого, что ты смотришь на женщину как бы сквозь мутные очки, – волнуясь, продолжал Замша. – Она для тебя всего лишь объект твоей похоти. Ты вдоль и поперёк исследовал её тело. Оно тебе наскучило, и ты бросился в погоню за новым. А душа? Душа Танина? Ты говорил с ней хоть раз по душам? Стал ты ей другом? А между тем, ведь дружба мужчины и женщины настолько тонка, настолько отличается от дружбы между мужчинами! Мужская дружба, понимаешь, вечно подозрительна, имеет привкус соревнования, борьбы, конкуренции. Даже мы с тобой соревнуемся. Друг другу что-то доказываем. Доказываем, кто из нас лучше. Пусть бессознательно. Но это так! С женщиной – наоборот. С ней можно по душам. Особенно с такой, как твоя Танька. Она человек замечательный, с тонкой душой и умная. А во время разговора сколько телесного контакта, поверь, никак не связанного с сексом! Понимаешь, женщина больше, чем словами, может сказать прикосновением простым. Берёт за руку, и это у неё, как бы объяснить, – это просто способ общения, её тепло сообщается мне, она говорит, но не словами, а этим теплом, этим размеренным током крови там, внутри, этой пульсацией живых клеток… А что у мужчин? Не дай Бог, какое прикосновение! Что ты! Начинаются разные гомосексуальные фобии! Ой, не педераст ли я?
Не выдержав, я громко расхохотался в ответ на пространное рассуждение Замши.

User: Zamsha
Чего хохочет-то? Что я смешного сказал? Даже слёзы у него на глазах выступили от смеха. Рожа блестит, как самовар.
Ну, насмешил!.. – И снова гомерический хохот. Циклоп.
Машет ручищами.
– Замша, Замша, вот и видно, что ты никогда с женщиною близко не общался! Ой, насмешил! Ну я-то абсолютно точно не педераст, и различных гомосексуальных фобий у меня тоже нет. А за то, что ты меня рассмешил, я тебя сейчас прямо здесь вот возьму и троекратно по-русски расцелую в обе щеки!