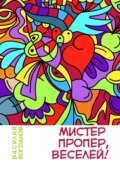Василий Богданов
Бунтующий Яппи
– Чё лыбишься-то?.. – Денискина хориная мордочка заслоняет картину. Машенька давно уже ушла. Я пошёл к гардеробу и забрал свою лоховскую куртку. Вот ещё одна причина, почему я не подошёл сегодня к Машеньке. Стыдно было бы разговаривать с ней, одновременно надевая лоховскую куртку. Был бы у меня кожаный плащ. О кожаном плаще я мечтаю давно. Хочу, чтобы он был длинный и доставал до земли. Ещё хочу дипломат. Вот так, мне кажется, я должен выглядеть, чтобы, так сказать, внутренняя сущность соответствовала внешнему виду.
Мы пошли вместе с Дениской. До дому нам топать почти по пути.
– Видал сегодня в бассейне у Альки волосы подмышками? – неожиданно спросил он меня.
– Нет, как-то внимания не обратил, а что?
– Да ничего, чисто так спрашиваю. Это значит, что она созрела уже, въехал? Она с каким-то парнягой мутит из десятого, что ли, класса, точно не знаю. Думаешь, они трахались?
– Может, трахались.
– Стопудово трахались. А то как? Когда созреешь, по-другому нельзя.
– Я зато, – говорю, – видел, что Алька лифчика не носит.
– В натуре, что ли? – Денискины глаза зажглись.
– Я тебе отвечаю. Сам завтра можешь посмотреть.
Представилось смуглое Алькино тело, фиолетовый румянец на щеках. Горячей расплавленной чёрной смолою брызнули раскосые татарские глаза. Она сидит через проход от меня. Сегодня на ней была белая блузка, и я, глазея в окно на литературе, случайно увидел, что она не носит лифчика. Сквозь блёклый молочно-кисейный туман просвечивали очертания темнеющей сопки с навершием из маленькой шишечки. За ней вторая. Груди. Солнце наливало золотую лужицу в ложбинку между ними – маленький христианский крестик. И запах, какой-то сладковатый и одуряющий, шёл от неё и бил в ноздри. Так, наверное, пахнут подмышки. Я представлял, как медленно расстёгиваю на ней пуговка за пуговкой блузку, обнажая смуглое. Вижу тёмные грудки, увенчанные сладкими шершавыми шишечками хмеля. Хотелось стиснуть их пальцами.
Всё это только похоть, на самом деле я её не люблю.
– Видал, сколько у Груздя волосни? – спросил Денискин голос.
– Ага.
– А тёщиной бородки-то нет ещё. Знаешь, что такое тёщина бородка?
– Нет.
– Это, короче, когда от хуя до пупка волосы растут. Тёщина бородка называется. Только у взрослых мужиков бывает. У моего бати есть, а у твоего?
– Не знаю, он не живёт с нами.
– А-а-а-а. Па-анятна-а. Видал, какая у Клячи шапочка?
– Какая?
– Как презик. Неприкольно на башку презик натягивать, в натуре ведь? Покупал их когда-нибудь?
– Нет.
– У моего брательника их целая куча. Мы тогда в них набирали воды. А знаешь, кстати, сколько в один гондон воды влазит?
– Литров десять?
– Да не, поболее. Ну вот, набирали, а потом с балкона кидали. По приколу было.
Добрались до остановки. Пока не было троллейбуса, мы оба прилипли рожами к витринам киоска. Там много было всяких жёвок и новых шоколадных батончиков, которых я ещё не пробовал. Из всех мне больше всего нравится «Сникерс». Вы пробовали когда-нибудь «Сникерс»? Орехи, мягкая нуга, густая карамель и великолепный молочный шоколад! Интересно, что такое нуга? Короче, когда хаваешь этот «Сникерс», то эта густая карамель так прикольно тянется, совсем как у мужика в рекламе. Съел и порядок! А ещё недавно появились эти новые конфеты «Скитлз» – радуга фруктовых ароматов. Их я ещё не ел. Нарубить бы где-нибудь бабок на «Сникерсы» и «Колу», а то на мамкину зарплату, небось, не очень-то пожируешь. Она у меня врач-педиатр. Получает гроши, даже на хавчик толком не хватает.
– Знаешь, что Груздь каждый день, когда делает домашку, по «Сникерсу» хавает и колой запивает, – завистливо протянул Дениска, отлипнув от стекла. Тяжёлая сумка тянула его к земле, и он смотрел на меня снизу вверх, смешно вывихнув шею.
– Да, – говорю, – прикольно ему.
– А ты ему сразу пни по яйцам, – неожиданно зло сказал Дениска, и глаза его сузились. – Когда кто-то сильней, надо сразу по яйцам, а потом запинывать.
– Ты чё, – говорю, – злой такой.
– Да не злой, чисто так.
Тут подошёл мой троллейбус, и я сказал:
– Ну, пока.
– Пока.
Домой я приехал в самом паскуднейшем настроении. А вечером вдобавок ко всему ещё с матерью поругался неизвестно зачем. В последнее время она особенно меня достаёт своими расспросами дурацкими.
– Как день прошёл?
– Нормально.
– У тебя что-то случилось?
– Нет.
– Я же вижу, что ты какой-то грустный.
Молчу. Тогда она пускается на разного рода наивные хитрости: «А за мной сегодня, представляешь, какой-то дядька гнался с цветами, кричал: «Вы – женщина моей мечты». И начинает наигранно смеяться.
А я ей:
– Ну и выходи за него замуж, мне-то что.
Она теряется. Потом берёт себя в руки и раздражённо замечает:
– Не груби мне.
Щёки у неё покрываются розоватыми пятнами.
– Ты вообще в последнее время стал очень грубым.
– Сама такого воспитала, теперь расхлёбывай! – отвечаю.
А она стоит и, видно, не знает, обидеться ей или рассердиться и залепить мне пощёчину. Как маленькая девочка, честное слово! Тут захотелось как-нибудь ещё поддеть её, и я медленно так говорю, каждое слово взвешиваю:
– Чё прикопалась-то со своими расспросами дурацкими, я же не спрашиваю тебя, почему у меня папы нет?!
– Кажется, мы уже обсуждали с тобой этот вопрос… – Она старается, чтобы голос был ровным.
– А знаешь, кто такой папа?! – с каким-то щенячьим привизгом выкрикиваю, – это тот, кто тебя базару учит, за жизнь тебе втирает! Поняла?!
– Слов-то нахватался.
– Нахватался, представь себе. Это не с тобой сюсюкать. Воспитывала меня всю жизнь, как благородную девицу. В гробу я видал такое долбанное воспитание!
Долго бросал ей в лицо обидные слова. При этом испытывал какое-то нездоровое удовольствие. Знаете, чего я добивался? Чтобы она ударила меня по щеке, и слёзы бы из глаз брызнули, а щека бы вспыхнула. Я бы тогда выскочил в прихожую, сорвал с крючка куртку, сунул ноги в стоптанные ботинки и выбежал на улицу, хлопнув дверью. Ушёл бы, короче, из дому. Все подростки рано или поздно уходят из дому. Со мной ещё такого не случалось, и я очень хотел попробовать. Но мать всё испортила. Она просто перестала меня слушать и занялась своими делами. Я оделся и хлопнул дверью. Конечно, не так эффектно всё вышло, как если бы она мне влепила пощёчину, но я решил всё равно уйти из дому, потому что меня игнорируют.
Темнело уже, и я стал представлять, будто в конце нашего разговора она не выдержала и отвесила мне оплеуху. Родная мать – и сына по щеке! Ну, нет, я ей этого никогда не прощу. Придёт ведь завтра сама извиняться. Да не тут-то было. Завтра я не вернусь, и послезавтра не ждите. Буду жить на вокзале с бомжами и проститутками. Пускай побегает, милицию на уши поставит. Они дадут объявление по телеку: такого-то числа, во столько-то такой-то ушёл из дому и не вернулся. На нём была коричневая дермантиновая куртка, синие джинсы «Врангель» (не настоящие, а китайские). Какую-нибудь фотку покажут, чтоб весь город видел. Через недельку уже надежду потеряют, с ума сойдут от горя, подумают, что меня продали на органы. А я – вот он, тут-то и объявился, целый и невредимый! Уж она тогда запомнит на всю оставшуюся жизнь!
Незаметно для себя я добрёл до Машенькиного дома. Девятиэтажки в сумерках напоминали многопалубные корабли со множеством жёлтых огней. Я почему-то вспомнил про книжки писателя Владислава Крапивина. Крапивин классный мужик и пишет прикольно про пацанов, таких же, как я, про корабли и про приключения. Тут мне захотелось быть капитаном какого-нибудь парусного судна, фрегата или каравеллы, а ещё круче пиратом типа капитана Блада, который возвращается к своей Арабелле Бишоп или как там, а она выбегает его встречать на пристань. Он сходит с корабля и крепко прижимает её к груди, непременно к груди. Так хочется прижать кого-нибудь к груди и гладить по волосам! Вот возьму и зайду сейчас к Машеньке. Всё ей расскажу. Она выслушает и поймёт, потом погладит по волосам, прижмёт к груди мою несчастную голову. Чёрт! Я иногда такой сентиментальный, аж воротит. Травлю себя, травлю всякой чушью! Мне вдруг сделалось стыдно оттого, что я сегодня мать довёл до белого каления. И самое главное, зачем? Так вот глупо я устроен. Сам вначале делаю, а потом не знаю для чего. Но всё-таки извиняться я не пойду. Гордость не позволит. Я, конечно, виноват, но ведь и меня можно было понять. Любая нормальная мать на её месте давно бы догадалась, что у меня переходный возраст и так далее. Она, между прочим, тоже виновата. Кто, в конце концов, меня воспитал? Не сам же я по себе такой вырос.
Вернулся домой уже очень поздно. На кухне горел свет, она не спала. Увидев меня, встала, молча прошла мимо и свернула в комнату. Я, не раздеваясь, просунул голову в дверной проём: она уже лежала, накрывшись одеялом и отвернувшись к стене.
Скоро я тоже улёгся. Не удавалось заснуть. Слышалось её ровное дыхание. Мы оба спим в одной комнате (квартира-то у нас однокомнатная в панельной девятиэтажке – всё, что дали после сноса барака в 1987): она возле окна, а я на другом конце, в углу. Вдруг показалось, что будет до жути романтично не спать совсем и целую ночь думать о моей Машеньке.
Попытался поймать в фокус воображения её розовый кошачий ротик. Он порхал перед внутренним взором. Когда-нибудь мы с ней поженимся и тогда будем вместе лежать в одной постели. Мне представилась сцена: я у неё в гостях, мы долго целуемся – Господи, невероятно! – оба падаем на кровать. Мои руки забираются ей под блузку. Нет. Я поспешно отдёргиваю их и отваливаюсь в сторону. Лежим, прерывисто дыша и глядя в потолок. Кто-то стискивает сердце. Господи, милая моя, как долго ещё до свадьбы! Нам только четырнадцать. Но мы дождёмся, правда, ангел мой? Правда? Так мы будем испытывать себя, мучить каждый день, но ни разу не дойдём до конца. Что-то, конечно, можно будет себе позволить и до свадьбы. Снять с неё блузку, расстегнуть лифчик и прижать маленькие нежные грудки к своей горячей груди. В этом же нет ничего предосудительного! Всё. Только это. Дальше я не пойду. Я честный человек. Я начинаю проделывать всё это с ней в своём воображении. Я готов был сдержать слово. Только снять лифчик. Расстёгиваю его скрюченными пальцами: мелькают круглые спелые фиолетовые груди, украшенные шершавыми шишечками. Смуглое тело. Прекрасный раскосый, серебром отливающий сабельный длинный серп татарского глаза. Сверкнул. Рассёк. Губы жаркие, пухлые прислонились к губам. Альфия. Зверея, рычу, рву в клочья одежду. До конца! До конца! Ткань подушки, как наждачная бумага, царапает щёку. Тихо, чтобы мама не услышала. Простыня облепила зудящее тело. Тру его обо всё, что попадётся под руку. Господи, не могу. Прости грешника. Так. Колени стискивают одеяло, как клешни. Подушку вниз. Обхватываю ногами. Мну её. Милая Альфия. С тобой не надо ждать. Скорее. Кусаю зубами комок простыни. Целую собственные руки. Я нежный, я такой нежный, дайте мне подарить свою нежность. Ногти царапают кровать. Спазм. Стрелой в небо. На излёте. Высшая точка. Звезда. Взрывается. Стремительно вниз. Тело колотит, будто оно кувырком по ступенькам летит. Всё.
Распятый лежу на кровати. Я жалок. Я противен себе. Я ничтожество. Если бы Машенька только знала, она бы меня не простила никогда. Всё, сегодня был последний раз, когда я позволил себе это. Я мужчина или тряпка? Неужели не могу сказать себе твёрдо раз и навсегда: я завязал и точка. Могу. С тем и заснул.
На следующее утро, так и не помирившись с мамиком, погнал в школу. Обычный день. На крыльце у школы старшаки тусуются. Широкие спины в кожаных куртках. От них несёт агрессивной смесью табачного дыма и одеколона Oldspice. В рекламе мужик рассекает по волнам на сёрфинге. Обещают запах свежий и пряный, как морская волна. Короче, это был Чиба и его братва. С ними ещё зависали размалёванные девицы с обесцвеченными волосами. Драные лохудры. Я хотел было незаметно прошмыгнуть мимо, но меня окликнули:
– Слышь, парняга, иди сюда, побазарить надо.
Внутри всё похолодело, и кишки слиплись от страха. Такой вот я трус. Если будут прикалываться, смолчу. Ну их, с ними связываться.
– Иди, иди, не грейся.
Я робко приблизился. Обесцвеченные лохудры нагло изучали меня, надувая розовые пузыри из жвачки.
– Чё уставился? – одна сказала. – Это ж «Бубль гум».
Они заржали.
Чиба наклонил свою бычью голову вниз и выкатил на меня стеклянные карие глаза. На его короткой шее растеклось чернильно-фиолетовое родимое пятно.
– Ты в воскресенье с Груздём махаться будешь? – спрашивает.
– Ну, я, – отвечаю.
– Смотри, не обломай, мы все придём, посмотрим.
– Да, я уже ставки сделал, – выкрикнул кто-то из их братвы. Все снова дружно загоготали.
Чиба продолжил:
– Я на тебя поставил, не обломай. Если Груздь тебя отпиздит, ты мне денег будешь должен.
Я заморгал и хотел возразить.
– Ну чё шарами хлопаешь, вали теперь.
Я повернулся, как загипнотизированный, и пошёл в школу. Хренотень какая-то получается очень неприятная. Теперь-то уж железно придётся драться. Вчера, успокоившись, я подумал, что, может быть, как-нибудь удастся замять это дело. Не выгорит. Настроение опять стало паскудное, будто отравился чем.
Единственный случай меня сегодня порадовал. Стоим мы с Дениской на переменке перед географией, треплемся о чём-то своём. Весь наш класс торчит в коридоре, потому что Географиня никого внутрь до звонка не пускает. Запрётся на шпингалет и сидит одна. Какого чёрта она там делает? Заходим потом на урок, а там воняет «Красной Москвой» или ещё чем. Наверное, она за перемену целый флакон на себя вылить успевает. Зачем? Может, чтобы потом от неё не несло. В общем, точно не знаю. Короче, мы с Дениской прикалываемся, а рядом Светка Зубова с Маринкой. И как-то ненавязчиво вдруг начинаем вместе общаться. Они смеются, мы не отстаём. Я чувствую: что-то уже наклёвывается. Словом, хорошо всем. А дальше – ещё лучше! Светка в разговоре, как бы между делом, протягивает полные красивые руки и поправляет воротничок моей рубашки. Мне прямо в лицо, в самые глаза ударило тёплой волной, даже губы обожгло. Сделала она это бессознательно, повинуясь какому-то женскому инстинкту приводить всё в порядок, и сама смутилась. Тепло заструилось вниз, растекаясь по животу. Приятно было до жути. Я тут же на месте в неё влюбился. Таких потрясающе красивых тёмно-карих, почти чёрных глаз я ещё ни у кого не видел. Кожа у неё белая-белая, а на щеке коричневая родинка, будто кто капнул в молоко капельку шоколада. Родинка движется, прыгает, когда улыбаются розовые губы. Какая она замечательная, эта Светка! И оказывается, не злится на меня за то, что я её тогда случайно в раздевалке увидел без лифчика. Чёрт, я иногда сам себя не понимаю! Мимо в этот момент проходила Маша Кащенко, и я не нашёл её такой же привлекательной, как вчера. Мне показалось, что она слишком худая. И нос у неё крупноват. Я даже обозлился на неё за этот нос. Симпатичное личико и такой носище! Какая-то она, вдобавок ко всему, холодная. Во всяком случае, в Светке больше тепла. Светка душевнее и ближе как-то.
В обеденный перерыв в столовке Груздь схватил меня за рукав и сказал, чтоб я Светку оставил в покое. Я вырвал локоть и вообще не стал ему отвечать. Подождём до воскресенья. Зря, конечно, бахвалился. Начистить ему рыло у меня нет почти никаких шансов, потому что попросту не смогу я врезать ему по роже. Вы когда-нибудь замечали, как трудно бить людей по морде? У меня это главная проблема. Ну, и ещё страх, конечно. Вчера я чуть-чуть в штаны не наложил в бассейне-то. Как же я ему врежу? Только начинаю представлять драку, сразу суставы размякают. Я жалкий, ничтожный, трусливый онанист. Ни на что не способен! Самое обидное, что я это про себя знаю.
Сегодня топаю домой после школы весь загруженный своими проблемами. Дениска где-то сзади отстал. Оборачиваюсь, а он с перекошенной мордой убегает в сторону. Сумку подмышку подхватил и вчесал. Я вначале не врубился в чём дело, а потом посмотрел вперёд и увидел гопников. Их было трое, и шли они мне навстречу так: двое впереди, один немного сзади. На всех чёрные вязаные шапочки, надвинутые на глаза, и куртки LosAngelesKings. Походочка характерная: головы втянуты, плечи ссутулены, а руки спрятаны в рукава. Я не на шутку перетрухнул, или, по-нашему, сел на измену, но сворачивать было поздно, поэтому морду сделал клином и ломлюсь мимо них, стараюсь ни на кого не смотреть. Авось пронесёт? Они проскользнули по обе стороны. Один ещё как следует толкнул меня плечом, но я возникать не стал, а только шагу прибавил, лишь бы ноги унести подобру-поздорову. Потом слышу:
– Слышь, Вася, «катей» подогрей нас, а?
Голос не угрожал, но по-дружески просил об одолжении так, что не было никакой возможности отказать. Рука сама полезла в карман джинсов, достала мятую сотню, которую я сэкономил на школьных обедах, и передала через плечо. Её с благодарностью приняли невидимые руки, затем вкрадчивый голос сказал:
– Слышь, я же вижу, что ты нормальный парняга, «катю» не подкрысил, у тебя, наверное, ещё «воздух» есть? Нам чисто на пиво с децл не хватает.
Тут до меня допёрло, что я по уши в дерьме. Теперь гады не отвяжутся, раз поняли, что можно меня развести, как лоха. Они ещё плотнее взяли меня в кольцо. Двое шли по краям (я чувствовал их плечами), один сзади. Волки позорные.
– Больше нет, – говорю.
– А если мы проверим? – оживился голос. Из чужого рта воняло подсолнечными семечками и гнилью. Мне стало противно от этой вони, а ещё противнее от собственной трусости. Если бы я дал им себя обшарить, то потом презирал бы себя всю оставшуюся жизнь.
– Как, – говорю, – ты проверишь?
– Ты ёбнутый или притворяешься? Пошли сейчас вот сюда во двор, ты нам карманы покажешь, если, в натуре, нет «воздушки», можешь идти, а если есть, значит, ты пиздобол и нам денег должен.
– Не пойду я никуда.
– Дык, слышь, Вася, ты же по-любому не прав. Да стой, куда ты ломишься? Ломовой, что ли? Слышь, ты вообще по каким понятиям живёшь?
Тут я вспомнил, что говорил Турбо, и брякнул:
– По воровским.
– По воровским?.. – Первый голос как будто удивился. Другой с сомнением спросил:
– А у тебя старшой-то хоть есть?
– Нет, – говорю.
Он тогда обрадовался:
– Если старшого нет, кто тогда тебя вором утвердил? Значит, ты не вор, а пиздобол, и нам денег должен.
– Никому я не должен.
– Ты чё, Вася, повёлся, ты уже тут столько накосорезил, что нам косарь должен. Сегодня не отдашь, мы счётчик включим.
– Я Толю Гурдюмова знаю, – промямлил я без особой надежды.
– Чё-о-о-о-о? Ты такой пиздобол, в натуре! Я сам его племянник. Так что не гони.
Короче, опять началась та же волынка, которую мне Груздь недавно втирал. Я понял, что бесполезно с ними разговаривать, и молчу, только шагу прибавляю. Потом не выдержал и драпанул. Стыдно, конечно, было, но ничего поделать с собой не мог. Такая вот я размазня. Ещё, главное, как от них смылся, так сразу начал представлять, как врезал тому, что шёл справа, по сусалам. Он схватился за лицо, а я его коленкой под дых. Потом развернулся и треснул второму в солнечное сплетение. Тот начал хватать ртом воздух. Третий, понятно, не стал дожидаться своей очереди и исчез.
С матерью опять сегодня какие-то нелады. Вздумала меня кормить биодобавками. Хаваю суп, смотрю: она мне что-то в чай подсыпает. Я тарелку отодвинул и говорю:
– Так, чего это за отраву ты мне скармливаешь?
– Это, – отвечает, – биодобавка. Мальчикам очень полезна.
А сама глазами невинно так заморгала, будто я её поймал на месте преступления.
– Почему это именно мальчикам? – наседаю.
– Потому что у них организм… в общем, чтобы они были спокойнее.
Так это теперь называется?! Короче, я всё понял: чтобы мальчики по ночам в карманный бильярд не играли! Меня это так взбесило, особенно её дурацкие увиливанья, как будто я не знаю, о чём речь идёт! Добавки я, понятно, жрать не стал и как всегда нагрубил. Ну и кончилось крупной ссорой. Хотел было опять уйти из дому, но потом поостыл и никуда не пошёл. Ночью думал о Светке. Никак из головы не выходила её родинка, прыгающая на белой щеке, и улыбчивые губы. Полные руки, поправлявшие мой воротничок. В бассейне видел её в одном только купальнике. Она стояла на тумбочке и готовилась прыгнуть в воду. Маленький мускул дрогнул на мраморном сильном бедре. Но крамольные мысли я тут же пресёк и слово своё вчерашнее сдержал: не стал заниматься рукоблудием, чтобы не пачкать светлый Светочкин образ. Проснулся уже влюблённым в Светку по уши. Я так глупо устроен! В школе сегодня весь день мой восторженный взгляд преследовал её. Только надо было соблюдать осторожность, а то заметит кто-нибудь, и пойдёт сплетня гулять по классу, дескать, новенький озабоченный. А кто неозабоченный? На большой перемене Груздь стал, как всегда, об мою Светочку обтираться. Прижал её к стенке и проходу не даёт. Во мне аж всё закипело. Подваливаю к нему, решительно хватаю за рукав и не знаю, что сказать! Все слова застряли в горле. Покраснел, как идиот, до самых ушей и выдавил из себя только глупое и банальное: «Не лезь к ней». Это вместо того, чтобы произнести язвительную речь, которой я хотел Груздя уничтожить, растоптать его в прах, чтобы он отстал от Светочки раз и навсегда. Я бы тогда заговорил с ней, но не так, как Груздь. Не стал бы ей всякую похабщину шептать. Словом, всё бы сложилось как нельзя лучше. Но я только еле слышно пролепетал: «Не лезь к ней».
– Не встревай, новенький! – отрезал Груздь и снова повернулся к Светке, продолжая бормотать ей на ушко что-то грубовато-ласковое и прижимая к стене. Его губы сложились в улыбку искусителя. Но самое обидное, что Светка выразительно сверкнула на меня глазами, мол, не мешай, новенький, видишь, мы заняты!
Подавленный, я поплёлся назад. Зачем? Зачем ты вчера так непринуждённо и так по-женски поправила мне воротничок? Ты, конечно же, сделала это безо всякого умысла. А я, дурак, подумал, что могу надеяться на нечто большее с твоей стороны!
Сижу вот теперь на алгебре. Дениска рядом скрипит шариковой ручкой. С ним я не разговариваю со вчерашнего, когда он меня бросил и смотался от гопников. Тут меня ещё к доске вызвали. Я встал и спокойно говорю:
– Я не готов.
Надо уметь некоторые вещи говорить с чувством собственного достоинства, а то кое-кто начинает мямлить и крутить хвостом. Тишина. Все залегли на парты, как перед авианалётом. Кого спросит следующего?
– Садись, два!.. – Голос её звенит, как металл о металл.
Медленно сел с выражением глубокого безразличия на лице. Алгебраичка у нас молоденькая, и я вдруг подумал: интересно, как она провела прошлую ночь? Ведь все же вокруг занимаются сексом. Все поголовно. Я иногда иду по улице, смотрю на мужчин и женщин и думаю: «А ведь вы все занимаетесь сексом, чёрт возьми!» Все. По ночам. В своих комнатах. А некоторые и днём на работе в обеденный перерыв! Алгебра не лезла в башку. Я оглядел притихший класс. Все пишут. Солнце золотит их затылки. На соседнем ряду напротив меня сидит Алька. Рожа, беззвучно хихикая, пишет ей записочки. Она их разворачивает и прикрывает ротик смугленькой ладошкой, чтобы вслух не рассмеяться. Господи, до чего же у неё миниатюрные ручки! Я посмотрел на свою раскрытую пятерню – крабовая клешня. Однажды стою в очереди в буфет, а сзади Алька. «Купи, – говорит, – мне булочку» – и протягивает мелочь. На секунду только её маленькая ладонь доверчиво легла мне в руку, чтобы передать монетки. Но что это была за секунда! Я вполне испытал блаженство.
Алька сидит, склонившись над столешницей. На ней вчерашняя блузка. А лифчик? Смотрю урывками. Проскальзываю глазами. О, счастье! Опять нет лифчика! Утренние лучи просвечивают курящийся млечный туман. Где она? Призрачной тенью встаёт знакомая сопка. Вот-вот. Лови момент. Вот она! Хорошо виден пологий склон и навершие культового камня. Рядом ещё одна такая же. Загадочный запах. Мне никогда не разгадать его природу. Сладковатый, пряный, мускусный, но в то же время не резкий, едва только уловимый, дразнящий. Ноздри округляются. Что это? Зовёт? Хочу следовать за его обладательницей повсюду! Всегда этот запах сопровождает её. Стою на перемене или сижу на уроке, вначале обоняние улавливает уже знакомое раздражение, тонкий аромат. Миг нахожусь на грани предвкушения, потом глаза замечают её присутствие. Запах этот не назовёшь приятным, даже, напротив, к ощущению, которое он вызывает, примешивается небольшая доля отвращения. Он какой-то первобытный, привязывающий к женщине накрепко.
В дверь постучали, и в кабинет вошла наша классная. Она была сильно взволнованна.
– Алёна Владимировна, извините, пожалуйста, за вторжение, – обратилась она к алгебраичке, – я вынуждена сделать срочное сообщение.
Классная встала посередине перед доской. Заметно было, что она не знает, как лучше начать.
– Дети, произошло ЧП. Мне очень неприятно, что это связано именно с нашим классом… Как вы знаете, недавно в школу привезли новые парты. Между прочим, чтобы вам же было приятнее учиться. Все они хранятся временно в актовом зале на первом этаже. Некоторые… хм… наши мальчики, личность которых нам удалось установить, позволили себе… Иными словами, новые парты исписаны отвратительнейшей… похабщиной… Этот акт вандализма сам по себе заслуживает сурового порицания. Но это не всё… Там фигурируют имена девочек нашего класса. Я не буду называть ничьих имён, но я думаю, что тот, кто написал это, тот знает, и сам принесёт извинения девочкам, которых он оскорбил… Меня лично очень бы возмутило, если бы что-нибудь подобное было написано в связи с моим именем… Кроме того, на партах нарисованы в очень грубой форме… сами знаете что… Это мог сделать только бескультурный варвар, и мне очень неприятно, что такие всё ещё учатся в нашей школе, более того – в нашем классе. Такое циничное отношение к женщине недопустимо! Всех, кто участвовал, мы будем вызывать к директору по очереди и проводить индивидуальные беседы. Возможно, в отношении некоторых лиц вопрос будет стоять об исключении из школы. Видимо, также придётся пригласить психиатра, потому что, когда это принимает такие извращённые формы, здесь уже явно имеются отклонения в психике. Я что хочу сказать: если вам так уж хочется рисовать эту пакость или писать – пишите дома на бумаге, а потом выбрасывайте или лучше рвите сначала. И ещё, мальчики: те, кто это написал, вам должно быть сейчас стыдно. Поймите, что нельзя так о девочках, тем более о тех девочках, с которыми вы вместе учитесь. Как вы сейчас будете смотреть им в глаза, я не знаю! Ведь это же будущие матери ваших детей.
Потом классная извинилась ещё раз перед алгебраичкой, они вместе поохали, и она вышла. Народ загалдел, обмениваясь предположениями о том, кто это сделал. Можно было не сомневаться, что после звонка все кинутся в актовый зал, чтобы своими глазами посмотреть на злополучные парты.
– Не знаешь, кто это? – спросил Дениска у Зойки, сидевшей сзади.
Та округлила глаза и под страшным секретом сообщила:
– Это по ходу дела Груздь, Посолнух, Турбо и Кляча. Это они писали про Светку и про Альку и, кажется, про Машку ещё. Знаешь, кто их заложил?.. – Она придвинулась к самому Денискиному уху. – Маринка. Про неё тоже та-а-акое написали! – Зойка многозначительно закивала. – А она их всех спалила.
Всё время, пока классная произносила свою гневную речь, я краснел. Уши горели. Шею жгло, как огнём. Узкий воротник тёр её и колол. Я думал: вот сейчас она скажет, сейчас она назовёт, но она не сказала и не назвала. Она попросту не знала, не догадывалась, не могла даже подумать, и никто в целом классе, который гудел, как растревоженный улей, не знал, не догадывался, не мог подумать, что это сделал я! Я, случайно оставшись один в актовом зале, писал на парте все эти похабные гадости про Машеньку, и про Альку, и про Светку. Груздь, Подсолнух, Турбо и Кляча пришли потом, читали и ржали, как резаные, и добавили ещё про Маринку. Самое главное, что я не могу объяснить теперь себе, почему мне было так приятно писать примитивные и грубые слова. Причём началось-то всё случайно. Я вдруг подумал: а что если я возьму и напишу на парте «Это» про Машеньку? Вы понимаете, «Это» про Машеньку! Кто бы мог подумать, что такое можно писать про Машеньку! Чёрт возьми, ещё как можно. Никто ведь не узнает, что это я сделал. Правда, вдруг кто-нибудь войдёт в зал, пока буду писать?! Но чувство опасности только меня подогрело. А эти новенькие парты, сверкающие свеженькой краской! Потом уже остановиться не мог. Находился в каком-то сладком оцепенении и расписывал во всех подробностях отвратительные сцены. Вот такой я человек. Не человек, а куча дерьма. Что теперь делать? Пойти во всём сознаться? Лучше сразу повеситься, потому что с таким позором мне потом не жить. Пусть лучше все думают, что это Груздь. А там как-нибудь скандал замнётся, и всё забудется. Хорошо бы сейчас время назад повернуть. Устроить всё так, будто ничего и не было. Может, на самом деле не было? Может, Груздь и написал это на партах, а не я? Я ведь и не мог бы такого никогда в жизни написать.