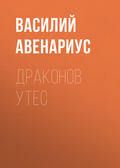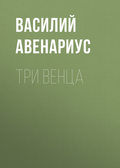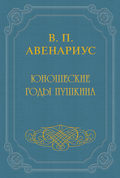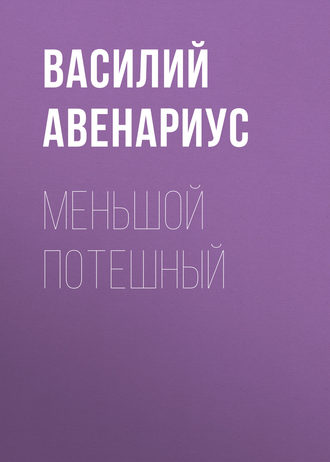
Василий Авенариус
Меньшой потешный
X
Над селом Преображенским словно грозовая буря разразилась. Воздух сотрясался неумолчным грохотом пушек и ружейным треском, так, что оконные стекла во всех домах села дребезжали. Население, как местное, так и окружных слобод и сел, высыпали как на пожар, и столпилось на берегу Яузы, заглядываясь на ту сторону реки, где происходил штурм новой царской крепостцы, Пресбурга.
Подоспела туда почти к началу действия и знакомая нам вторая кормилица царская, Олена Спиридоновна.
– А где же сам-то он, голубчик мой, Петр Алексеевич? – тревожно спрашивала она у стоявшего около нее царского старика-прислужника. – Ишь дымище-то какой! Ничего насквозь не разглядишь.
– А вон он – впереди других со знаменем в руке, – отвечал прислужник.
– Вижу, родимый, вижу! Так чего ж он не упрятался в крепости?
– Экая ты, несуразная, Спиридоновна! Ведь государь же берет ее тепереча приступом.
– Да кто же там-то, в самой крепости?
– А учителя государевы – Нестеров да Зоммер. «Держитесь, – говорит им, – да защищайтесь, как знаете: вам, мол, и книги в руки, а мы, говорит, изловчимся и вырвем у вас книжку из рук».
– Ведь вот бесстрашный! И палатки вон там у Лебяжьей рощи, поди, его же, царевы?
– Вестимо. Оттелева и зачали бой. Глянь-ка, глянь! Завязали рукопашную.
В самом деле, нападающие среди облаков дыма бросились вперед врассыпную и полезли на приступ.
Но маститый комендант крепости, Нестеров, не хотел, очевидно, без упорного сопротивления сложить оружие перед своим прытким учеником. Сам, стоя на высоком валу, он одушевленно подбодрял защитников крепости к энергическому отпору, и те обнаженными саблями, прикладами фузей, а то и просто кулаками, отбивались и сбрасывали атакующих в ров. Несмотря на то, что отдельными отрядами последних руководили немецкие офицеры, все искусство, весь натиск их ни к чему им не послужили.
– Вон! Никак отбой бьют? Так и есть! На попятный пошли, – говорил, соболезнуя о неудаче молодого царя, старик-прислужник, стоявший по-прежнему на том берегу Яузы среди глазевшего народа рядом с царской кормилицей.
Спиридоновна, постоянно замирая от страха за своего питомца, как бы «дурна не учинилося», в то же время не могла не желать ему всякого успеха и потому готова была теперь заплакать.
– Ах, сердечный ты мой! Каково-то ему на душе? Мечется, небось, как угорелый… Ан нет, постой, братцы, глядите: у Петруши-то моего что-то, знать, уже надумано. Не с реки ли подобраться хочет?
Пока большинство Петрова войска стягивалось обратно к Лебяжьей роще, сам Петр с небольшим отрядом свернул уже к укрепленному «террасой» берегу, где был привязан большой плавучий плот, служивший, как упомянуто, для перевозки через Яузу грузных повозок. Не прошло пяти минут, как плот был отвязан, занят всем отрядом с молодым царем во главе и пробивался сквозь тонкую ледяную слюду, затянувшую за ночь поверхность воды, к невысокому барбету, которым фортеция была ограждена со стороны реки.
– Ура! – гулко донеслось в это самое время от царских палаток у Лебяжьей рощи, и вся нападающая рать беглым шагом двинулась оттуда снова на крепость.
На крепостном валу поднялся страшный переполох. Приходилось одновременно отбиваться и с суши и с «моря». Против Петра с его «морским» отрядом комендант крепости мог выставить только небольшую кучку отборных потешных, под начальством молодого лифляндца Менгдена (впоследствии полковника Преображенского полка), который одним богатырским ростом своим внушал уже к себе доверие.
Плот между тем причаливал к барбету. Менгден решился на крайнюю меру.
– В атаку! – скомандовал он, и весь отрядец его вслед за ним прямо с барбета навалился на стоявших на плоту.
Произошла отчаянная рукопашная схватка. Неустойчивый плот под напором и отпором дерущихся погружался в воду то с одного края, то с другого, и бывшие на нем один за другим срывались с плота и с плеском падали в реку.
– Вперед, братцы! За мной! – раздался вдруг сквозь общий бранный гомон отрочески звонкий голос Петра. Без шапки, с развевающимися кудрями, со знаменем в приподнятой руке он стоял уже на барбете.
Но Менгден также не зевал. Помощью большого багра он со всем напряжением своих геркулесовых сил оттолкнул от берега грузный плот со всеми стоявшими еще на нем бойцами, и плот, тихо качаясь, поплыл вниз по реке. Менгден с торжествующим смехом обернулся к Петру и распростер в обе стороны руки, чтобы не пропустить его.
– Ну, теперь сдавайтесь, государь! Ведь, все равно, вам от нас уже не уйти.
И точно: с разных сторон подскочило еще несколько неприятелей-потешных и окружили Петра.
– Попался! Ай, болезный мой! – глубоко вздохнула на том берегу Спиридоновна, свидетельница всей описанной сцены.
Но опасение ее было преждевременно. С пылающим от гнева лицом Петр прорвался сквозь цепь обступивших его врагов и мгновенно одним прыжком с барбета очутился в реке и скрылся под ее усеянною льдинами поверхностью.
Спиридоновна только ахнула и опрокинулась на руки своего соседа-прислужника: толстухе сделалось дурно.
В лагере неприятелей также произошло общее смятение, и бой по всей линии разом прекратился.
Но вот над водою показалась голова Петра. Десятки услужливых рук с «террасы» протянулись к нему навстречу. Но он сердито не принял непрошенной помощи, сам вылез проворно на сушу и, отряхнувшись, без оглядки быстрыми шагами пошел к палаткам. Слух о несчастном приключении с молодым царем мигом облетел все Преображенское и, недолго погодя, оттуда отчалил на плоте царский врач, голландец ван дер Гульст, которого переполошившаяся царица-мать Наталья Кирилловна отрядила к сыну.
– Сейчас назад вези его, сударь! – кричала вслед врачу с берега очувствовавшаяся опять Спиридоновна. – Мы тем временем истопим голубчику баньку: против этакой бани лучше средствия от простуды нету.
Но напрасно была истоплена «банька», тщетно ждала царская кормилица до позднего вечера обратно своего ненаглядного Петрушу. В этот день он так и не показался уже никому из своей походной палатки.
XI
А что же Меншиков? Он был около своего молодого государя в палатке, разбитой у Лебяжьей рощи. Одинокий ночник освещал внутренности палатки. Петр отдыхал на своей походной кровати, прикрытой мохнатой буркой; у ног его, свернувшись на войлоке, лежал его молоденький денщик.
По временам Меншиков поднимал голову, чтобы удостовериться, не заснул ли его господин. Но Петру было не до сна. Он то поворачивался с бока на бок, то стонал, вздыхал, и денщику сдавалось, что того бьет даже лихорадка.
– Ты не спишь, государь? – решился он спросить его наконец.
– Заснешь тут! – был сердитый ответ. – Что-то будто горло перехватило.
– Так и есть, – с беспокойством подхватил Меншиков. – Искупавшись в студеной воде, ты верно схватил лихоманку; тебя, государь, знобит.
– Давеча, может, и знобило, но теперь весь как в огне горю… Устал, знать, шибко…
– Нет, государь, ты простужен! Сейчас кликну твоего немца-лекаря…
– Не смей! – повелительно остановил денщика Петр. – Слава Богу, не малое дитя: и так пообмогусь.
– Но ты же до сих пор даже глаз не сомкнул…
– Потому что не спится. До сна ли после такого позора?
– Э, государь! В чем же позор-то? В том, что два старика-учителя твои, Нестеров да Зоммер сразу тебе не сдались? Да на кой прах бы они, скажи, годились кабы день-то один не смогли удержаться в крепости противу тебя? Гроша бы медного они не стоили!
– Так-то так…
– А что искупался ты раз ненароком – эка диковина! Шла туча блинная – столкнулась с тучей пирожною.
– Ну, да! Ты – старый пирожник: тебе все блины да пироги. А если мне и завтрашний день не удастся штурмовать крепость…
– Так это будет значить, что мы зело хорошо укрепили ее и что твои потешные там тоже лихие молодцы. Честь тебе, значит, и слава.
– Ты, Данилыч, меня все только улещаешь. А как никак, до сих пор честь и слава на их стороне…
– В заморских премудростях – пускай. А мы их нашею русскою хитростью-мудростью перемудрим. Дозволь мне, государь, слово молвить…
– Говори.
– Теперь они, поди, с денной работы все в повалку дрыхнут. Луны еще на небе нету, темень непроглядная. Подобраться бы к ним потихонечку, с бережью великою да захватить врасплох.
– Как бы не так! На валу они, верно, часовых расставили.
– А тех мы, постой, осилим по-своему. Прикажи только, государь, отпустить бочонок крепкого полугару…
– А! Понимаю: военную хитрость! – вскричал Петр и, весь встрепенувшись, вскочил с постели. – Вели трубить сбор…
– Что ты, батюшка! Все тихомолочком да полегонечку. Я за свое дело, а ты – за свое.
На валу фортеции Пресбург по распоряжению Зоммера действительно было расставлено на ночь несколько часовых. Но ночная служба после денной передряги была, видно, не понутру караульным: один, всего более выносливый и преданный своему долгу, расхаживал еще взад и вперед по валу с мушкетом на плече. Двое, завернувшись в свои плащи, прикорнули под лафетом пушки и изредка обменивались отрывочными фразами. Еще двое спустились сперва в сухой ров между валом и забором под предлогом, что там они лучше защищены от холодного ветра, а затем, пользуясь темнотою безлунной ночи, незаметно скрылись со своего поста, очевидно, не придавая еще должного значения строгой воинской дисциплине.
– Тоже служба называется! – ворчал один из наличных часовых, расположившихся под пушкой, поводя продрогшими плечами. – Глянь-ка вверх на небо: эвоно как вызвездило! К морозу, значит. Изволь тут мерзнуть, как пес дворовый, ночь напролет!
– А уйти тоже не моги, – отозвался другой, – этот немчурай огнестрельный мастер шутить не любит: бока таки нагреет.
– Тем, стало, теплее будет! – сердито усмехнулся первый. – Эхма! Кабы кто хошь шкальчик поднес.
– Как же, дожидайся!
В это время вблизи беседующих, под самым валом раздался осторожный свист. Неутомимый часовой на вале не замедлил окликнуть свистуна:
– Кто идет?
– Отвечал отроческий альт, да так тихо, что двум отдыхающим караульным нельзя было расслышать.
– Что там такое? – заинтересовался один из них. – Пойти разве посмотреть?
– Ступай, коли не лень, – был ответ.
Но минуты две спустя его самого вполголоса позвал товарищ.
– Эй, Сидорка! Поди-ка сюда, да чур не шуми. Сидорка не мог теперь не последовать зову.
– Что, небось, говорил я тебе сейчас про шкальчик, ан шкальчик уже тут как тут, по щучьему веленью, по моему прошению.
Оказалось, что пожаловал к ним царский денщик Данилыч. Как стало холодать к ночи, велел ему-де государь Петр Алексеевич выкатить для его потешных два бочонка пенника. И запало в умную головушку мальцу, что они, часовые, тут такие же потешные благоверного царя своего, а мороз их тоже по коже подирает, зуб на зуб у них тоже, поди, не попадает.
– И один бочоночек нам сюда спроворил? – подхватил Сидорка.
– Не полный, прости, а все же на вашу братию, часовых, я чай, хватит, – отвечал Меншиков. – Дай, думаю, свезу: хошь ноне словно бы и вороги нам, а те же христиане православные. Ведь вас сколько тут будет?
– А пять человек, да двоих что-то не видать, не слыхать.
– Вам же, братцы, лучше. Только, чур, Бога ради, ни гу-гу, не выдавать меня, паче же всего государю: добросерден он, да горяч и своеволия не потерпит.
Посовещались еще меж собой караульные, но кончили тем, что «всякое даяние благо». Полчаса спустя около опорожненного бочонка лежали на валу три мертвецки пьяных тела. Еще четверть часа погодя скрипнули крепостные ворота, грянуло стоголосое «Ура! Ура!» – и фортеция Пресбург была во власти осаждающих. Помощник коменданта Симон Зоммер, прилегший у себя в домике на лавку в полном вооружении, был застигнут, как и прочие, врасплох. Сквозь чуткий сон расслышав за стеною кутерьму, он быстро приподнялся на локоть, высек огонь и засветил свечу. Но дверь к нему с треском распахнулась, и в горницу ворвался сам царь Петр Алексеевич, а за ним Меншиков и несколько вооруженных потешных.
– Сдавайтесь, капитан! – крикнул Петр, победоносно налетая на полулежащего с обнаженной саблей.
Зоммер схватил лежавшую около него на ложе саблю и метким ударом отпарировал занесенный над ним клинок, а сам в то же время вскочил на ноги.
– Да это измена!.. – буркнул он, ретируясь за стол и становясь в оборонительное положение.
– Никакой измены, капитан, один военный фортель, – отвечал Петр, – крепость в наших руках, просите пардону!
– Но комендант наш, Нестеров?
– Тоже взят в постели. Вам одним ведь с нами не справиться. Просите, говорю, пардону: по крайности, оставим вам оружие, отпустим вас с миром.
Суровые черты огнестрельного мастера осветились полусердитой усмешкой.
– Одним хоть нам с Нестеровым утешиться можно, – проговорил он – что ваше величество – ученик наш. Получите!
И с формальным поклоном он передал ученику свою саблю. Но тот ее не принял, а заключил старика в объятия и звонко поцеловал его в обе щеки.
– Именно, что вы же оба подучили меня победить вас, – сказал он. – Вы – да вон еще этот малый, – прибавил он, указывая на Меншикова. – Спасибо тебе, Да-нилыч, надоумил! Не знаю, чем и отблагодарить тебя.
– Одну милость, государь, я просил раз у тебя, – бойко отвечал денщик, – ты тогда отказал…
– Какую милость?
– Да когда ты впервой набирал потешных…
– А! Да, помню. Ты просился тоже в потешный полк. Тогда, точно, ты был еще слишком мал, не под стать моим молодцам. Теперь хоть выровнялся… Возьмете ли вы его к себе в товарищи? – отнесся Петр к присутствующим потешным.
– Как не взять, государь, коли ты пожелаешь: за честь почтем, – был единодушный ответ.
– Ну, так желаю! Быть тебе отныне, Данилыч, моим меньшим потешным.
XII
– Видел ли ты уже, государь, сию куншту? – говорил любимый царский карла Никита Комар, входя раз поутру, летом 1686 года, в опочивальню молодого царя и подавая ему какой-то бумажный сверток.
Развернув сверток, Петр увидел гравюру, представлявшую портрет правительницы-царевны Софьи Алексеевны.
– Сестра Софья, – сказал он. – Ничего, схожа.
– Схожа-то схожа, а высмотрел, разглядел ли ты, милостивец, в каком она тут обличии и параде?
– Вижу, аллегория кругом: Разум, Целомудрие, Правда, Надежда, Благочестие, Щедрота, Великодушие. Дай Бог ей все сии добродетели!
– Да это же не все, государь, – вмешался тут безотлучный наперсник царя Меншиков. – Государыня-царевна, гляди-ка, изображена в венце царском, с державой, со скипетром в руках да с надписью, вишь – «Самодержица».
Открытое, красивое лицо отрока-царя слегка омрачилось.
– Что ж из этого? – промолвил он. – Титулуется же она второй год уже и в грамотах, и в челобитных «самодержицею» наряду с нами, царями-братьями.
– А намедни, в мае месяце, была с вами тоже на царском выходе! Да гоже ли это для нее, царевны, при царях-братьях? Не погневись, государь, на смелом слове, но кабы были у тебя уши слышать все, что говорится кругом тебя…
Глаза Петра вспыхнули огнем.
– Что говорится? Ну!
Меншиков с опаской огляделся на присутствовавшего Никиту Комара.
– Да говори, не бойся! – заметил ему карла. – Не от меня ль ты Данилыч, больше и слышал? А я, государь, не выдумщик, вот те Христос! Говорю только, что своими ушами слышал…
– Так что же ты слышал? – прервал его Петр и нетерпеливо ногою топнул. – Каждое слово из вас обоих надо клещами таскать!
– Изволишь видеть, – начал Комар, – бают, что благоверная государыня-царевна наша, а твоя сестрица, Софья Алексеевна, живучи годами отшельницею в своем девичьем тереме, начиталась всяких назидательных житий святых отцов, святых жен, царей и цариц…
– А что ж в том дурного?
– Дурного в том ничего бы, кабы не заняло ее про-тиву всех житие некоей цареградской царевны Пульхерии… Так сказывали мне, государь: за что купил, за то и продаю.
– Ладно! Дальше-то что же?
– А та Пульхерия-царевна, слышь, тоже была келейница благочестивая, великовозрастная, за малолетством братца своего царя Феодосия заправляла царством и приняла титул «Августы», сиречь «Самодержицы»: Как подрос он, царь-от, она самолично указы ему всякие к подписи подносила, поженила его, на ком вздумала, а как преставился он волею Божьею (царство ему небесное!), сама же выбрала себе из царедворцев своих супруга и воссела с ним на престол царский[4].
– И Софья возмнила-де себя такой же Пульхерией? – воскликнул Петр. – Но я, слава Богу, не Феодосий!
– Ты-то, государь, может, и нет…
– А кто же?
– А старший братец твой, царь Иван Алексеевич, не в зазор его царской чести: женила же его, не спросись, сестрица позапрошлым годом, как только ему шестнадцать лет исполнилось, на девице Прасковье Федоровне Салтыковой. Покуда-то Господь им только двух дочек дал, а даст сынка-царевича, так царевна именем племянника до смерти своей, поди, Москвой да и всем государством Московским заправлять станет. А о тебе и помину не будет.
– Нет! Нет! Ты, Никита, на сестру напраслину только взводишь! – возразил Петр.
– Ничего я, государь, на нее не взвожу! повторяю только, что кругом говорят. Слухом земля полнится. Зачем бы ей, сам посуди, было печатать вон этот портрет свой, да не на бумаге только, а и на тафте, на объяри, на атласе? Зачем было раздавать его направо да налево: «Гляди, мол, люди православные, кто есть истинная самодержица всея Руси». Объявила она ноне поход противу погани этой – татарвы крымской. Зачем, скажи? Вестимо, затем, чтобы явить себя и на поле ратном. Снарядила посольства во все царства христианские. Зачем? Затем, чтобы и те признали ее достойной носить венец царский. Вот, государь, что бает народ-то, а глас народа – глас Божий!
Нельзя сказать, чтобы откровенная болтовня карлика не оставила в душе впечатлительного пятнадцатилетнего царя никакого следа. Но он был еще слишком юн и неопытен в жизни, слишком мало задавался предстоявшим ему в будущем обширным государственным делом, чтобы вполне оценить те последствия, какие мог повлечь за собою самовластный образ действий его сестры-правительницы. Он сознавал только, что что-нибудь ему надо было и от себя предпринять.
– А кто, бишь, едет первым посланником нашим в чужие земли? – задумчиво спросил он. – Кажись, бывший стольник мой Долгорукий?
– Он самый, государь. Князь Яков Федорыч как раз нонче тут в Преображенском прощается с государыней-царицей. Соизволишь позвать к тебе?
– Позови.
Меншикову Петр приказал, между тем, подать большой глобус, по которому Зотов обучал его географии. Когда явился Долгорукий и объяснил, что собирается на поклон к королю французскому Людовику XIV и испанскому – Карлу II, Петр поручил посланнику передать тому и другому, что рано или поздно он лично намерен навестить обоих в их столицах.
– Ведь не так-то уж далеко тоже, – сказал он, одной рукой поворачивая на оси глобус, а указательным пальцем другой руки следя по глобусу путь от Москвы до Парижа и Мадрида.
– На шаре-то этом словно бы и близко, – отозвался Долгорукий, – а поди-ко-сь, сколько тысяч верст будет!
– Уж и тысяч! Кто их мерил?
– И не меря, государь, ученые люди тебе скажут точка в точку, как далеко от такого-то до такого-то места.
– Я что-то тебя, князь, не пойму. Как же так вымерить не меря?
– А вот как. Есть у них, слышал я, инструмент такой, астролябия, что ли, называется: как наставишь ее, так можешь, слышь, не подходя, вымерить хоть бы колокольню Ивана Великого.
– Ну!
– Ей Богу, правда. За верное слышал. Коли хочешь, нарочно тебе такую астролябию в гостинец из заморских краев привезу?
– Привези, голубчик князь, непременно, смотри, привези! Без того мне лучше и на глаза не показывайся.
– Обещаюсь, так уж сдержу слово.
Но долго заставил ждать себя Долгорукий. В те патриархальные времена, как известно, и за границей железных дорог не было еще в помине; шоссированные пути встречались там разве кое-где около столиц. Не диво, что вернулся Долгорукий в Москву не ранее мая 1688 года. Зато он не забыл обещанного гостинца. Когда, однако, распаковали астролябию, ни молодой царь, ни сам посланник не знали, что делать с нею. Смышленый и изворотливый в других случаях Меншиков на этот раз также стал в тупик. Послали за Зотовым и Нестеровым. Но и оба учителя, оказалось, к немалому «конфузу» своему, видели мудреный инструмент впервые.
Выручил врач царский, ван дер Гульст. Был у него в Москве земляк и однокашник голландский, купец Франц Тиммерман, который еще на школьной скамье в родном своем Амстердаме считался первым математиком и не мог не знать, как приспособить астролябию. И точно приглашенный в Коломенское Тиммерман живо приладил инструмент и, по предложению Петра, вычислил расстояние от царских хором через Яузу до фортеции Пресбург.
Не верилось, однако, Петру, чтобы дело могло обойтись без какой-нибудь уловки: велел он взять длинный канат, перетянуть через реку к фортеции, а затем измерить канат саженью. И что же? Расчет голландца оказался, что аптекарский: верен цифра в цифру!
– Как это ты высчитал, мингер? – удивился Петр. – Укажи, пожалуй.
– Из аттенции к особе вашего величества я душою рад, – отвечал с поклоном Тиммерман. – Дело само по себе несложное, коли знать арифметику да геометрию. Но далеко ли, ваше величество, дошли в сих науках?
Вопрос несколько смутил Петра. Четыре правила-то мы с Афанасием Алексеевичем проходили… – промолвил он.
– А геометрию?
Молодой царь безотчетно поднес руку к затылку и переглянулся, как бы ища поддержки, сперва с Нестеровым, потом с Зотовым. Оба пожали плечами.
– Моя часть была больше огнестрельная да фейерверочная, – стал оправдываться Нестеров.
– А моя – Закон Божий да письмо, – отозвался Зотов.
– Да, спасибо тебе, Никита Мосеич, почерк у меня великолепный, на загляденье! – усмехнулся Петр. – Вот кабы я писал так, как сестра Софья, которая нанизывает букву к букве, словно печатает…
– Дело, государь, не в красоте письма, – заметил Меншиков. – Было бы изложено красно, умно да толково.
– Верно… коли есть у кого ум и толк. Любезный Тиммерман, – быстро обернулся Петр к голландцу, – возьми-ка ты меня в науку!
Тиммерман не отказался, и с этого самого дня он сделался безотлучным наставником и спутником молодого государя.