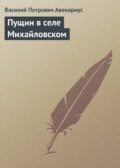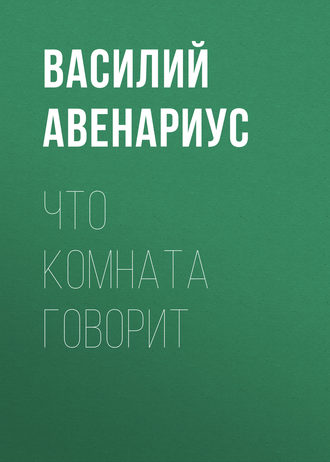
Василий Авенариус
Что комната говорит
– Кто в жизни мыльных пузырей не видал! – сказал кувшин.
– Ну вот. Точно так же и наш мастер на стеклянном заводе: возьмет длинную железную трубку, обмакнет в стеклянную жижу и ну дуть с другого конца. Дует, дует, а стеклянная капля на кончике раздувается все больше, настоящим пузырем. Пренеприятное чувство, когда тебя так раздувают, скажу прямо! А он, дуя, еще вертит тебя вокруг головы, и тянешься ты поневоле, тянешься, как быть надо графину. Тогда поставит тебя на горячую каменную плитку, горячую – чтобы тебе не простудиться и не лопнуть, и чикнет ножом по горлышку, чтобы ты от трубки отстал. Уф! Точно петлю с шеи сняли. Потом железным прутиком еще каплю стеклянной жижи возьмет и губы тебе наведет, наконец, для красы уже, обведет тебе вокруг плеч и шен стеклянное же ожерелье…
– А я-то… – зазвенел тут рядом с графином стакан.
– Что ты? – строго перебил его графин. – Ты, братец, только полграфина или даже полбутылки: разрезали бутылку пополам – и все тут. Так вот как, милостивые государи! Мы, народ стеклянный, хоть и слабы, хрупки, стукнешь нас неосторожно или (чего Боже упаси!) уронишь – в куски, вдребезги разобьемся, зато же и чувствительны, отзывчивы: только пальцем щелкни – голос подадим, зазвеним!
V
Справа, слева, сверху, снизу – отовсюду вдруг зашелестело, точно в лесу тысячи листьев разом зашевелились, и на Ваню как бы ветром пахнуло. Вот тебе на! Это ведь обои на стенах проснулись, заколыхались, заговорили.
– Всякий из вас пожил, господа, правда, – шелестели обои. – Но все же, сколько бы вас тут ни было – будь вы из дерева или из железа, из глины или из стекла, – все вы живете вашу первую жизнь и второй жизни вам нет и не видать.
– А вы-то что же, вторую жизнь живете? – прозвенел графин.
– А то как же? – отвечали обои. – Наша первая жизнь была тряпичная, наша вторая – бумажная. Сколько лет нас люди платьями, бельем носили, пока мы на них в лохмотья, в отрепья не изорвались! Тут бы, кажется, нам и конец? Ан нет! Тут выручили нас наши новые крестные – тряпичники: «Буты-лок, банок! Костей, тря-пок!» Сгребали тряпье и из домов, и из сорных ям, а понабравши целый воз – марш на бумажную фабрику.
– Славная компания! – сказал брезгливо графин. – Да на один воз вашей грязной братии двух возов мыла недостало бы!
– Да-с, вашим комнатным мыльцем с сальным тряпьем немного поделаешь, – сказали обои. – Нас, сударь мой, в трех кипятках да в трех щелоках проварили, нас трепалкой в мелкую кашу истрепали, изодрали, – хоть «караул!» кричи. Зато же уж и насквозь пробрало. А рядом, в другом чане, тут же, свежей водой окатили, – так всю грязь как рукой сняло! Стала каша чистая, аппетитная – хоть сейчас кушай! Только чистоте нашей люди и тут не поверили: чтобы от прежней дряни в нас и духу не осталось, хорошенько еще нас продушили.
– Одеколоном, верно? – сказал графин.
– Как бы не так! Хлорною водой, сударь мой. Пахнет она, правда, вовсе не духами – расчихаешься, раскашляешься; зато очистит, убелит как снег.
– А дальше что же было?
– Дальше – пустяки, прогулка одна. Поумывшись, убелившись, вытекли мы кашицею из крана на проволочную сетку. А сетка на колесах, идет себе вперед да вперед, да трясется еще при этом с боку на бок. Вода-то из кашицы и сбегает сквозь сетку, а там остается одна густая бумажная масса. Навстречу тут два валика. Проходит масса меж валиков и выходит из-под них уже не массою – настоящею плотною бумагой. Только сыровата еще она. И идет она все дальше, идет по мягкому войлоку. Опять навстречу ей два валика, не холодных уже, а нагретых. Продирается она опять меж них и вылезает оттуда уже совсем сухою. Скоро сказка сказывается, да скорее дело делается: только что жидкою кашицею были, глядь – и бумагою стали.