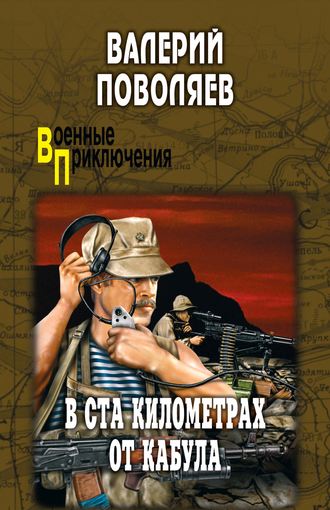
Валерий Поволяев
В ста километрах от Кабула (сборник)
© Поволяев В.Д., 2019
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
В ста километрах от Кабула
Ночью Абдулла занял кишлак.
Абдуллу знали многие. Знала вся округа, знал уезд, в котором он родился, знал соседний уезд, знала провинция, которую он считал своей, и провинция соседняя.
Абдулла пришел в этот равнинный кишлак в половине одиннадцатого ночи, расставил посты, чтобы его не захватили врасплох части народной армии, от своего человека узнал, кто в кишлаке партийцы, кто активничает, с надеждой поглядывая в сторону народной власти, а кто еще только примиряется, и накрыл кишлак сетью. Кое-кого Абдулла поймал в эту сеть. Но несколько партийцев все-таки ушли.
– В Кабул понеслись зайцы за помощью, – усмехнулся Абдулла, помяв пальцами мягкое, лишенное растительности лицо. Сколько Абдулла ни пробовал, он никак не мог отрастить бороду и усы – продолговатое, с мягким женским абрисом лицо его всегда было голым. – Давайте, давайте, зовите помощь, ведите сюда! Тут мы вас, зайчики длинноухие, и прихлопнем! Пусть вам в этом праведном деле Аллах поможет!
Щеки у Абдуллы были покрыты крупными плоскими оспинами, бровей, как и бороды, тоже не было – почти не было, брови, как и волосы на голове, вылезли в детстве от странной болезни и больше не восстановились; кожа у Абдуллы была гладка и нежна, будто у женщины. Отсутствие волос делало Абдуллу несовершенным по мусульманским понятиям, и Абдулла, осознавая это, нередко вскипал от одного только любопытного взгляда, будто кумган, подвешенный за дужку над жарким костром, маслянисто-черные глубокие глаза его от ярости светлели, делались прозрачными, лишенными цвета, будто вода, и такой холод искрился, плыл в этой воде, что всем, кто видел глаза Абдуллы, делалось страшно, храбрецам становилось зябко: лучше в руки этого человека не попадать.
– А еще, муалим, у нас в кишлаке умные люди появились, – сообщил Абдулле верный человек и согнулся в поклоне: знал этот человек, что Абдулла любит, когда его называют муалимом – учителем. – Только не от Аллаха эти люди.
– А от кого? – спокойно спросил Абдулла. – Кем рождены?
– Они из Кабула. В Кабуле, как известно, Аллаха нет.
– Не гневи небо, в Кабуле шестьсот мечетей. Еще четыре года назад было только триста.
– Что кабульские мечети, муалим! Сырая глина! С гвоздями для электропроводки. Разве в старых мечетях была электропроводка? А муллы? Я был как-то в Кабуле, в мечети, там выступал мулла. Из кармана у него торчал партийный билет, щеки были разукрашены помадой падших женщин, а изо рта несло так, будто он по самое горло был налит кишмишовкой.
Губы у Абдуллы сжались в тонкую жесткую линию, гладкокожее нежное лицо с удлиненным черепом округлилось, глаза посветлели: несколько лет назад в Кабуле его угостили кишмишовкой – крепким, с дурным духом самогоном, сваренным из винограда, прозрачно-желтым, чистым, будто мед, а на самом деле таким, что за него надо бы тому, кто кишмишовку делал, вспороть живот. В кишмишовку для того, чтобы она была крепче, намешали разных дешевых таблеток. На них Абдулла попался – хватил стакан сгоряча – вначале вроде бы хорошо было, а потом чуть Аллаху душу не отдал – его выворачивало вместе с непереваренной едой, с кровью шла желчь, с желчью еще что-то, еще часа два Абдуллу рвало, пока окончательно не вывернуло наизнанку. Ослабший, оглушенный, с тяжелыми мозгами, он трое суток провалялся в постели. Еле-еле втащил свою телегу в гору, не помер.
Потом он пробовал найти того, кто его угостил этим ядом, специально ведь угостил, кафир[1], – не нашел, но потом, через полгода, все-таки наскочил на этого человека – видать, Аллах помог, и пока тот распространялся в любезностях, прижимая руку к белой рубахе, поверх которой была надета толстая шерстяная жилетка с двойной подкладкой, Абдулла вытащил из кармана нож с узким, беззвучно вылетающим лезвием и ткнул кафиру в глаз. Кафир захлебнулся в крике, в глотку ему словно бы попал камень; Абдулла, чтобы неверный не орал, будто осел, которому топором оттяпали хвост, зажал ему рот ладонью, вывернул голову так, что у неверного глухо хряпнули шейные позвонки, и опорожнил второй глаз. На прощание произнес одну, одну лишь фразу:
– Моли Аллаха, что я тебе вообще глотку не перерезал.
Вспомнив о неверном, чуть не отравившем его, Абдулла проговорил жестко:
– Всем глаза выколем, дай только время. Черед придет – выколем всем, всем!
– Муалим, в этом кишлаке открыли школу.
– Школу? Зачем?
– Я вот тоже спрашиваю – зачем она тут? И себя спрашиваю, и Аллаха – не нахожу ответа. Может, вы, муалим, ответите, зачем нам нужна школа? – Верный человек говорил смело. В следующий миг он испугался этой смелости и склонился в поклоне. Под рубахой у него обозначились остренькие, неестественно уменьшенные лопатки: тело верного человека было хилым, словно его редко кормили. Плевать в конце концов на тело, главное, человек этот имел хорошую ясную голову, лисье чутье и волчью беспощадность. Абдулла ценил верного человека, поэтому и позволял ему говорить накоротке.
– Ничего не отвечу я тебе на это, – проговорил Абдулла тихо и жестко, помял щеки пальцами, – в других кишлаках школ нет и тут не нужна. – Он подвинтил огонь яркой китайской лампы, горевшей на столе, несколько раз качнул насос. Сделалось светло, как днем, лампа загудела ровно и умиротворенно, будто походный примус. Хорошую продукцию производят соседи. И фонари у Абдуллы китайские, и автоматы Калашникова, и консервированные сосиски, и пуховики, чтобы не мерзнуть в горах, и «эресы» – легкие ракеты класса «земля – земля», – все китайское. Проговорил, тяжело глядя на верного человека:
– Ну?
– Кабул прислал в кишлак двух учителей, – верный человек вдруг дробно, как-то по-птичьи рассмеялся: – Оба дураки, но занятия ведут.
– Где они?
– Крепко спят и совсем не чуют, что не там ночуют. Койоты! Они здесь, в кишлаке.
– Учителя, значит. – Абдулла усмехнулся, глаза у него начали светлеть, наливаться опасной прозрачностью; заскользили, заметались в них ледышки, – счетные палочки за ушами, вонь изо рта, медленный голос, затрещины и непременное желание научить детей читать и писать, да?
– Да, и непременное желание научить детей читать и писать, – подтвердил верный человек.
– Взять учителей! – приказал Абдулла.
Учителей взяли – те не смогли сховаться, и время на это имели, и возможности, а не воспользовались. Молоды еще были учителя – оба только что из теплого гнездышка, именуемого техникумом, летать пока не научились, крылья тощие, пера мало.
– Чему взялись, спрашивается, учить детей? Тому, чтобы они были такими же голозадыми, как и сами? – Абдулла задумчиво огладил гладкое лицо, поднял испанский, дорого поблескивавший в свете лампы пистолет «стар», щелкал курком и, что-то переборов в себе, отвел глаза в сторону. – Сосунки! Надо бы посмотреть на них, но смотреть не буду.
– Тогда скажи, что делать с учителями, Абдулла?
– Обычная процедура: отрезать головы, зашить в животы.
То, что Абдулла называл обычной процедурой, было уже исполнено не раз – к этой процедуре, вызывавшей у новичков зябкую дрожь, озноб, некоторую бледность, обмороки, люди Абдуллы привыкли. Оказалось, это так несложно – отхватить человеку голову и засунуть ее в кровоточащий, черно-перламутровый распах живота – операция, правда, требует некой последовательности и мастерства, но все-таки она несложная. У Абдуллы было несколько мастеров высокого класса, сумел воспитать.
Молодых учителей убили. Один из них перед смертью плакал – в Кабуле у него оставалась мать, одна-единственная на всем свете, и он у нее один был единственный, больше никого у матери не было, ни сыновей, ни дочерей, снова плакал, глотая слезы, читал Руни – думал, подействует, но не подействовало – над учителем посмеялись, а потом отсекли голову и развалили парня пополам. Живой человек, только что источавший слезы, тепло, звуки, стал источать лишь запах, один только запах крови и разрубленных внутренностей. Второй принял смерть молча – у него не было матери.
– А с учениками что? – спросил у Абдуллы Мухаммед – верный помощник, длиннорукий, с тяжелыми натруженными кистями и унылым пористым носом. Мухаммеда Абдулла ценил – был помощник проворен в деле, не боялся пуль и окружения, как собственные карманы знал афганские кяризы – колодцы, соединенные друг с другом в земной глуби, он мог легко увести людей в темень от любого преследования и сутками не выводить из кяризов – впрочем, Абдулле кяризы были знакомы не хуже, – знал Мухаммед, где, не поднимаясь на поверхность, можно добыть еду, воду, где можно разжечь огонь, а где вести себя беззвучно, словно тень, и на деле быть своей собственной тенью, не больше, и знал места, где можно было всласть пошуметь. Бывалый человек был Мухаммед, и это Абдулла ценил.
– С учениками? – Абдулла огладил рукою лицо, сжал узкий, с едва намеченной ямочкой подбородок – он и сам не знал, что надо сделать с учениками, не думал как-то. Спросил, недовольно растягивая слова, словно бы всплывая на поверхность самого себя. – А что с учениками?
– Я тоже думаю что, – сказал Мухаммед. – Жду указаний, муалим.
– Они что-нибудь совершили?
– Ничего, – качнул головой Мухаммед, помялся, соображая, то ли он говорит. – Ровным счетом ничего.
– Тогда в чем же дело? – Абдулла подосадовал на некую бесплотность разговора: не поступать же с учениками так, как с учителями – степень вины разная.
– Ничего не сделали ученики, но они ходили в школу, – твердым голосом произнес помощник.
– И в этом вся их вина?
– Да. Разве этого мало?
Абдулла, подумав, согласился с помощником, сжал губы, глаза его начали светлеть.
– А ведь верно, – сказал он, – чему можно научиться у кафиров?
– Сквернословию и непочитанию Аллаха, – сказал Мухаммед.
– Я сам проверю их знания, – сказал Абдулла. Пригнувшись, заглянул в узкое, словно божница земляного укрепления, оконце. На востоке обозначалась легкая серовато-розовая светлина, горные звезды утишили свой свет, птицы, чувствуя рассвет, перестали петь – вот-вот должно было явиться чудо, но чудо не являлось, хотя и ощущалось: оно через секунду-другую обязательно явится, вот только что-то медлит, смущается, ведет себя, будто девица, которую готовят под калым: завтра пригонят верблюдов с платой, и она навсегда перейдет в пользование мужа. – Хорошая пора для стрельбы, – задумчиво проговорил Абдулла.
– Хорошая, муалим. – Помощник тоже пригнулся, чтобы увидеть игривую жемчужно-серую зарю.
– Люди спят?
– Как убитые, не шелохнутся.
– Посты расставлены?
– Да. Я сам проверил их.
– Проверь еще!
– Будет сделано, муалим.
– Ну а с учениками, решившими отступиться от Корана, я поговорю сам. Ты прав, это надо обязательно сделать. Хорошо, что обратил мое внимание.
– Иначе бы вы, муалим, не были муалимом, – произнес Мухаммед.
Фраза эта была заискивающей, хотя в тоне не было ничего заискивающего, тон был жестким, в голосе звучало железо.
Абдулла поглядел на помощника и сделал рукою отсекающий жест:
– Все, иди, Мухаммед!
Мухаммед коротко, почти не сгибая шеи, поклонился и вышел. Абдулла остался один. Никто не знал, когда он спит. Дважды его пытались застать врасплох спящим и дважды натыкались на пистолет – это было еще до того, как он собрал под свое начало людей. Абдулла умел стрелять на десятую долю секунды раньше, чем стреляли в него. Он многое умел в этой жизни – и разгадывать мысли, и читать следы, и предчувствовать опасность – люди Абдуллы редко когда попадали в засады. Что же касается сна, то он не спал вообще – Аллах решил, что спать Абдулле нельзя, и Абдулла не спал: ночи у него были прозрачными, гулкими, со множеством звуков, которые другие не слышали вообще, со звонким биением крови в ушах, с болью, что исчезает с рассветом и туманом, беззвучно поднимающимся от земли, струистым, липким, бестелесным, странно мерцающим – туман всегда создавал вокруг Абдуллы защитную оболочку, сквозь которую никто не мог проникнуть. Ночи, ночи! Мается Абдулла по ночам в вязкой темени, страдает, стонет, ловит все звуки, что до него доносятся, принимает их своим усталым телом, словно пули – звуки пробивают его плоть – дергается, а уснуть не может.
Утром к Абдулле привели школьников: двенадцать человек. Все как на подбор недомерки, одетые в рванье, босоногие, коричневолицые, черноглазые, будто бы одной матерью рожденные и от одного отца произведенные. А может, они действительно от одного отца? Хмурая сосредоточенность, не позволяющая им плакать, отчужденность, испуг и в ту же пору желание казаться взрослее, чем они были на самом деле, – вот что было написано на лицах этих маленьких людей.
– Значит, решили научиться писать, читать, алгебру решили познать? – шевельнулся на своем стуле Абдулла. Для него во двор специально вынесли стул, поставили на землю, за спиной немыми тенями застыли Мухаммед и два молодых телохранителя-суннита – два брата, которых Абдулла знал с малых лет: по годам Абдулла был моложе своего заместителя и ненамного старше телохранителей, но опыта имел больше, чем Мухаммед и телохранители, вместе взятые, и в жизни своей хлебнул горького варева гораздо больше, чем они, и одно только осознание этого иногда оборачивалось для Абдуллы глухой тоской, на глазах у него даже слезы наворачивались: ну к чему ему все эти тяготы? Абдулла жалел себя. – Разве вы не знакомы с простой истиной – чем меньше знаешь, тем лучше живешь? – спросил он у ребятишек.
Ребятишки молчали.
– И денег больше, и еды в доме, и скота в дувале, – всего больше, и сон хороший… Так нас учил Аллах, все это завещано Аллахом. Аллах велик, человек мал, ничтожен, словно конопляное зернышко. Что все мы перед Аллахом? И что вы перед Аллахом?
Ребята продолжали молчать, стояли перед Абдуллой смирно, будто куры, только сумрачно блестели глазами. Иногда переступали с ноги на ногу – ноги у всех были одинаково черными, с навечно въевшейся в поры грязью, теперь уже мой – не мой их – никогда не отмоются.
– Аллах запретил вам учиться, но вы нарушили этот запрет, неверные. Зачем вы это сделали? – Абдулла смежил веки и откинулся на стуле назад. Был он одет в чистую коричневую рубаху, в такие же штаны – ткань легкая, нежная, привезена из Пакистана, – подпоясан офицерским ремнем с перекинутой через плечо портупеей, из легкой, с укороченным клапаном кобуры торчала перламутровая ручка «стара». – Ну, объясните, зачем вы это сделали? – спросил Абдулла с неожиданной болью и, качнувшись на стуле, открыл глаза. В глаза ему было лучше не смотреть: прозрачные, жесткие и холодные, будто вода в горах. – Сколько раз вы ходили в школу?
– Два, – раздался тоненький, с дрожащими птичьими нотками голос.
– Кто сказал два? – тотчас спросил Абдулла.
– Я, – помедлив немного и кое-как справившись с собою, отозвался длинношеий, с большими выпуклыми веками паренек, одетый в латаные джинсы. Джинсы были стары, их столько раз стирали, что они не то чтобы потеряли свой цвет, они потеряли цвет вообще, в нескольких местах светились.
– Ты, бача[2], Аллаха почитаешь?
– Почитаю, муалим, – по-прежнему тоненьким дрожащим голосом произнес паренек, переступил с ноги на ногу, грязные отвердевшие джинсы на нем захрустели.
– Это хорошо, что ты меня зовешь муалимом, – сказал Абдулла, – и в то же время плохо. Ты боишься меня и поэтому подхалимствуешь. Ты боишься меня?
– Не знаю, – неуверенно приподнял одно плечо паренек.
– А я знаю – боишься. Прочитай мне двадцать третью суру Корана.
Паренек молчал. Скользнул глазами в сторону, приподнял второе плечо, потом хотел было плечи опустить, но не опустил – движения его были сиротскими, пришибленными – и втянул в них голову. Черные глаза его погасли: будто бы горела в них свечечка, теплилась слабо, поддерживая жизнь в тщедушном теле, которому много не надо, – и потухла.
– Двадцать третью суру ты не знаешь. Прочитай мне девятнадцатую суру. – Абдулла сцепил руки на коленях, большими пальцами, один вокруг другого, прокрутил мельницу.
Паренек продолжал молчать, лицо его сделалось безучастным, далеким, неживым – этот недомерок на глазах становился взрослым, у него было лицо взрослого человека.
– Ты когда-нибудь об Аллахе слышал? – Абдулла вздохнул затяжно, словно бы жалея себя и этих грязных ребятишек. – Отвечай, кафир!
– Слышал.
– А о Коране?
– И о Коране слышал.
Абдулла оглянулся на своего помощника.
– М-да, ну и птичка растет, Мухаммед. А? Какова? Ты понял, чему учили кафиры из Кабула этих ишаков? Вместо того чтобы воспитывать из них воинов Аллаха, учили их презрению к Аллaxy! Этого вам не простит никто. – Абдулла повернулся к детям, вновь прокрутил большими пальцами мельницу, то убыстряя движение, то замедляя. – И меня Аллах не простит, если я вас не накажу. Мухаммед, принеси-ка мне… – Абдулла, не договорив, повел головой в угол дувала.
В углу, на отвердевшей до железной прочности земле, стоял чурбак с воткнутым в него топором. На старом, иссеченном ударами чурбаке хозяин двора рубил хворост; если перепадали дрова – рубил дрова. Растительность в этом горном, забитом темной глинистой пылью районе была не самая богатая – рос кустарник, росла искривленная, завязанная ревматизмом и ветрами в узлы арча; высоких деревьев, как в Кабуле или в Джелалабаде, тут не было – не хватало воды, не хватало корма и удобрений. Не всякий житель кишлака мог позволить себе топить дом, как хозяин этого дувала.
– Топор? – спросил Мухаммед.
– Ты недогадлив, как шурави[3], которого угощают отравленным пловом, а он думает, что этот плов не с отравой, а с кишмишем. Тащи все – и топор, и плаху.
Мухаммед кивнул и тяжелой размеренной походкой, провожаемый глазами ребятишек, двинулся в угол дувала. Когда Мухаммед шел, то всегда казалось – Мухаммед думает о чем-то тяжелом, непростом – у него была походка замкнутого, закупоренного в собственную раковину человека, грузные натруженные руки висели вдоль тела мертво, не подыгрывая шагу, не двигались – они словно бы существовали сами по себе. Но это были руки, что могли оторвать от земли и бросить в кузов машины стапятидесятикилограммовую бочку с бензином – сильнее Мухаммеда в их отряде не было человека. Да что бочка с бензином – Мухаммед мог задушить быка, ударом ладони отсечь голову собаке, ухватиться за зад газующей с места «тойоты» и удержать машину. Мухаммед принес чурбак с топором и поставил недалеко от стула Абдуллы. Что надумал сделать Абдулла?
– Ладно, теперь вот ты мне прочти что-нибудь из Корана. Прочти… пусть это будет двадцать шестая сура. – Абдулла провертел большими пальцами мельницу и, не расцепляя рук на колене, указал на серолицего мелкозубого пацаненка в длинной, сшитой из женской накидки рубахе – голь перекатная, видно невооруженным глазом. Пацаненок невольно подался навстречу, испуганно вытянулся лицом:
– Я?
– Да, ты.
Пацаненок схлебнул воздух, пискнул, будто птица, в которую угодила дробина, и вдруг противно, как-то по-щенячьи мелко затрясся.
– Ты не знаешь Корана, – укоризненно произнес Абдулла, – ты совсем не знаешь Корана. Ни двадцать шестую суру, ни двенадцатую, ни первую.
– Этому я хотел научиться в школе, – наконец справился с собою пацаненок.
– Этомy в школе никогда не научишься. Никогда и ничему. И я, когда ходил в школу, тоже ничему не научился. Напрасно твои родители доверились двум кафирам, пришедшим из Кабула. Это не учителя, это чучела, которым надлежит пугать ворон на полях. Твои учителя сейчас смотрят на божий свет сквозь животы – такая доля им выпала по повелению Аллаха, а надо бы с них содрать кожу, набить соломой и выставить на поле. Твой отец виновен в том, что доверился кафирам. – Абдулла сожалеюще покачал головой. – Кафир не может быть учителем. Я расстреляю твоего отца, он совершил проступок, за которой должен расплатиться.
– Отец ни при чем, – затрясся, болезненно кособочась, пацаненок, – я сам пошел в школу, он ни при чем.
– Без его ведома пошел? – с сомнением спросил Абдулла.
– Без его ведома.
Абдулла в последний раз задумчиво прокрутил мельницу, расцепил руки, поднялся. Было слышно, как в теле его хрустнули кости – чего-то у Абдуллы не хватало: то ли солей, то ли лимфы, то ли крови, – а может, это только казалось, может, Абдулла был наделен чем-то таким, чем не наделены другие люди, и, верно, ведь наделен – Абдулла умел распознавать, что говорят птицы и звери, ведал, определяя по движению воздуха в воздухе, о чем шепчутся растения, в каком кяризе можно взять воду – вдоволь воды, чтобы напоить и людей и лошадей, умел возвращать жизнь остановившемуся сердцу, пораженным легким, вывернутому наизнанку желудку – Абдулла отличался от других людей. Он сделал нетвердый шаг, разминая застоявшиеся трескучие кости, потом резко выкинул руку и цепким движением ухватил пацаненка за запястье.
Дернул, заваливая мальчишку на себя. Тот покорно повалился, глухо стукнувшись коленками о землю, взвизгнул надорванно, но Абдулла словно бы не услышал его крика, подтащил пацаненка к чурбаку. Ловко взялся за длинный черенок топора, на лету перекинул пальцы по топорищу на середку, чтобы было удобнее держать, вхолостую рубанул воздух, пацаненок заорал предсмертно, тонко, выплевывая из себя невесть откуда взявшуюся кровь, взбрыкнул ногами, стараясь за что-нибудь зацепиться, но что Абдулле это слабое движение, он прижал руку пацаненка к иссеченному дереву и коротко, без замаха ударил топором по пальцам. Удар был ловким – отлетело, брызгаясь кровью, сразу четыре темных, скрюченных, похожих на застывший кошачий помет, пальца, вторым ударом Абдулла отрубил мальчишке большой палец. Сплюнул себе под ноги:
– Этo для того, чтобы ты никогда не смог держать карандаш – писать тебе, кафиренок, не дано, твой удел – земля и мотыга. – Выкрикнул: – Мухаммед!
– Я здесь, муалим!
– Вышвырни кафиренка за дувал, чтоб не мазал землю кровью, и так грязи полно.
– Слушаюсь, муалим! – склонил голову Мухаммед, схватил пацаненка за ногу, приподнял его, словно курицу, и понес к воротам.
– А отца расстреляй. За то, что слабоумен. Другим устрашение будет – перестанут своих кафирят отправлять в школу.
Мухаммед вынес пацаненка за дувал и швырнул в жесткую, трескуче-ломкую сухую траву, хлопком стряхнул грязь рукою с руки и молча отправился за отцом парнишки.
А Абдулла, ловко поигрывая топором – он был музыкантом в этом деле, профессором, поотрубал пальцы всем детям, и всем до единого – на правой руке. Чтобы никогда больше не могли кафирята держать карандаш, ручку. Абдулла знал, за что наказывает людей. Тоненькая ниточка жизни, которой каждый из людей был привязан к этой рыжей, горькой, до огненной крепости прокаленной солнцем земле, мало что значила перед исламом, да и вообще что может значить жизнь человеческая, когда в опасности находился ислам? А Абдулла служил исламу.
– Вновь объявился Абдулла-Чок[4], – сообщил утром на оперативке командир батальона царандоя – афганской милиции – майор Вахид, – зверствует Рябой! Четверо убитых, двенадцать искалеченных. Двое – учителя, присланные Кабулом, всего лишь два занятия провели, двое – отцы учеников, ходивших в школу, двенадцать – сами ученики. – Вахид не удержался, ударил кулаком по столу, будто удар этот мог что-то решить или хотя бы чем-то подсобить, сморщился, густые черные усы у него встопорщились: когда Вахид сообщал неприятную новость, у него осекалось перехваченное дыхание, еще минута, и воздуха ему не хватит – на висках у Вахида вздувались жилы, уголки рта обиженно опускались под встопорщенными усами – Вахид был горяч; ему надо бы немного позаимствовать холода, иначе, несмотря на храбрость, несмотря на везение, что, как известно, на войне значит больше храбрости, можно было угодить в капкан. Несмотря на то что везение – это везение, горячая голова все равно перекрывала везение.
– Бывает ведь: и умен человек, и образован, и операцию продумает так, что комар носа не подточит – маршала бывает достойна операция, верховному главкому не стыдно под нею подписаться, но если не повезет, так не повезет – обязательно случится что-нибудь непредвиденное, – не раз говорил Вахиду Сергеев, тоже майор, русский мушавер[5], приданный в помощь Вахиду, – и блистательно задуманная операция благополучно завалится. Все дело в везении. На невезучего человека обязательно сваливается с крыши кирпич, под ногами совершает кувырок водопроводный люк, совершенно трезвый, он попадает в передрягу, в которую может попасть только пьяный, и оказывается в вытрезвителе, в реке он обязательно оказывается в водовороте, в лесу – в яме, вместо настоящего белого гриба как пить дать зажарит ложный белый и скорехонько попылит ногами вперед в черный окоп, именуемый могилой. Если, конечно, его не спасут врачи. И все дело в везении. Либо в невезении.
– И я о том же говорю, – щуря глаза, усмехался Вахид, – везение либо невезение, промежуточного не бывает. Помнишь, в прошлом году я наступил на мину? Она должна была взорваться, но не взорвалась. Почему не взорвалась, даже специалисты не знают. Что это такое, рафик[6] Сергеев?
– Это и есть везение.
Вахид всегда был весел, легок на слово и на подъем, быстро гневался и также быстро отходил – для него время и скорость были совместимы: одно отождествляло другое, – умел очень многое, но никогда не хвастался своим умением, и Сергеев, человек, в силу своей профессии в общем-то не очень доверчивый, быстро поверил афганскому майору Вахиду, а майор Вахид – Сергееву. Понял Вахид, что с Сергеевым он сработается, а когда сработается, притрется плотно – ни люфта, ни зазоров не будет, научится понимать его с полуслова, полувзгляда, полужеста, то… в общем, они обязательно совершат что-нибудь выдающееся.
– М-да, совершить бы что-нибудь героическое рубля так на три, – вторя веселому настроению Вахида, веселел Сергеев, – или на четыре!
– В Афганистане рубли не в ходу, – окорачивал его веселый Вахид, – в Афганистане – афгани.
– Русские ребята твои афгани афонями зовут. Сколько стоят джинсы «суперрайф»? Две тысячи афоней.
В этот раз майор Вахид был мрачен.
При всей остроте классовой борьбы – майор был последовательным марксистом, хотя и наивным, как покойный руководитель Тараки, – при всех победах и поражениях, когда и больно бывает, и горячо, и сладкое приходится есть, и горькое, он не понимал такой вещи, как жестокость. Ну, к чему жестокость Абдуллы? К чему рубить детишкам пальцы, к чему калечить жизнь, стрелять отцов, отсекать головы беззащитным, ни одного человека в жизни не обидевшим учителям? Бессмысленная жестокость. То ли болен Абдулла, то ли свихнулся, то ли порча его сосет, выедает изнутри, то ли еще что-то есть – да впрочем, что порча, что болезнь, что сдвиг! Сам факт, что Абдулла – басмач – это уже больше чем болезнь, порча и сдвиг, вместе взятые. Вахид невольно поморщился, будто внутри его что-то зажало, стиснул пальцы в кулак, замахнулся, чтобы снова с силой грохнуть по столу, но сдержался и тихо, почти беззвучно опустил руку.
– Все-таки я тебя поймаю, неверный, – пробормотал он, жестко сощурив глаза, в которых и тоска была, и боль, и усталость, что-то еще, до поры до времени сдерживаемое, неразгаданное, не вахидово вроде бы вовсе: человек ведь всегда загадка, всю жизнь, до самых последних дней своих, – поймаю я тебя, кафир с заячьим сердцем и мозгами блудной кошки. Берегись!
– Почему один ты поймаешь? – возразил Сергеев. – Мы поймаем!
– Мы поймаем, – согласился Вахид, – но у меня с ним свой счет есть. Трижды я брал Абдуллу, в руке он сидел, дергался, как жук, кусался, кололся, лапами ладонь щекотал, а стоило разжать пальцы, в руке никого не оказывалось. Вот какой хитрый душман Абдулла-Чок.
– Какие данные на него есть? Кто он? – Сергеев прибыл в Афганистан недавно, сменив раненого майора Вакулюка, и с Абдуллой еще не сталкивался.
– Летает, как ветер по всей провинции, носится сломя голову, то тут объявляется, то там, нигде зажать не можем. – Вахид хорошо говорил по-русски, бегло, не задумываясь над словами: учеба в Советском Союзе даром не прошла. – Но попадется кошка лапою в капкан, поймаем все-таки Абдуллу! Кто он, спрашиваешь? Бедняк, рафик Сергеев, неимущий, с головы до ног ободранный бедняк, безграмотный – расписываться не умеет, хотя любит, когда его зовут муалимом. Но муалим этот вместо подписи к бумаге прикладывает палец. Отец умер рано – загнал его помещик в землю работой, мать тоже умерла. Абдулла зарабатывал на жизнь тем, что продавал воду. Он умеет доставать из кяризов самую чистую, самую вкусную воду. Носил воду на себе в Кабул. Когда умерла его мать, он вообще перебрался в Кабул. Работал в дуване, убирал помещение, был зазывалой. Когда выгнали – стоял на улице с картонной коробкой из-под ботинок и торговал шнурками. Дохода никакого, лепешку купить не на что было, а все при деле… Сам себя этим тешил – капиталист, дескать, предприниматель, а какой из Абдуллы предприниматель, рафик Сергеев?
– Раз сумел сколотить бандгруппу – значит, уже предприниматель. Раз так ловок, раз умеет выскальзывать – значит, уже больше, чем предприниматель, упускать Абдуллу нельзя.
– Просто сказать – «нельзя», да непросто это сделать. Абдулла всегда уходит, словно маслом смазанный. Если не по земле, то под землей, по кяризам. А кяризы он, водонос, знает куда лучше, чем мы с тобой.
– Кяризы, кяризы. Знать бы их. А я их совсем не знаю. Даже не видел, только слышал.
– И я не знаю, – потеребил усы Вахид, – хотя и родился, сам понимаешь, не в Англии. Кяризы знают крестьяне, а я городской. Скажи лучше, рафик Сергеев, вот что… Ты человек ученый…
– Если бы!
– Когда война кончится?
Вот неожиданный вопрос! Если бы Сергеев имел свою руку в правительстве Хомейни, среди приближенных Зии Ульхака, в Америке, в канцелярии президента, в Китае и еще в ряде стран – и то, собрав все сведения в горсть, ссыпав их несколько раз из одной ладони в другою, тщательно следя за тем, как меняет свою окраску и звонит этот горох – и то вряд ли ответил бы на этот вопрос. А Вахид требует ответа. Глаза у него ищущие, усталые, в организме, чувствуется, есть надлом. Не должен человек сгибаться, словно бескостная лозина под напором ветра, напротив, человек должен, он обязан держаться и не думать о конце.
Как только военный начинает думать о конце, о победе, об очередной звезде на погонах, так все – сердце выпрыгивает из этого человека, будто птица из клетки, ничем уже достать его нельзя: рассыпается на алые брызги, остекленеет, раскатится бисером по щелям.
– Мы устали воевать!
– Это вы, Вахид, устали, а мы?






