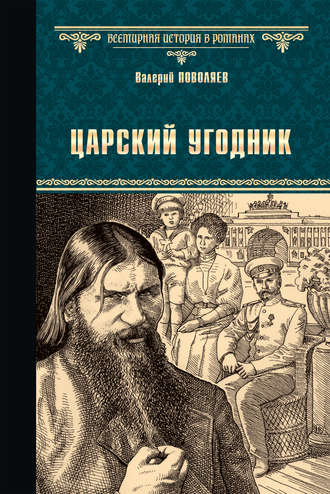
Валерий Поволяев
Царский угодник
На этот раз с ним ехало пятнадцать человек, сам он был шестнадцатым.
Войдя в купе, Распутин первым делом опустил стекло, с шумом втянул в ноздри воздух и азартно потер руки:
– Не верится, что сейчас поедем. Ох, не верится!
Высунул голову в окно, глянул в одну сторону, подмигнул толстому полицейскому, вооруженному тяжелой саблей и пудовым револьвером, перекосившим ремень, глянул в другую сторону, улыбнулся почтовому служащему, одетому в мятый форменный пиджак с нечищенными пуговицами, пошмыгал носом и вновь потер руки:
– Йй-эх!
Потом Распутин отправился посмотреть, что за народ собирается в вагоне.
Публика подбиралась солидная, важная, спокойная, и это радовало Распутина. У одного купе с открытой дверью Распутин остановился: человек, одетый в холщовый костюм, с волосами, стриженными бобриком, под одежную щетку, и спокойными глазами показался ему знакомым. Распутин покашлял в кулак и объявил с детской непосредственностью:
– А я тебя знаю!
– Я вас тоже!
– По-моему, ты у меня был. Дома!
– Никогда не был. – Человек в холщовом костюме засмеялся. – Тем более – дома.
– Тогда где же мы встречались? – озадаченно спросил Распутин.
– В канцелярии премьер-министра!
– А-а! – воскликнул Распутин и закрыл рот, боясь сказать что-либо лишнее. – Но я там бываю редко!
– Я тоже! – сказал человек в холщовом костюме.
– Как? Разве ты не там служишь?
– Нет.
– Тогда кто же ты? Я думал, что ты чиновник, там служишь!
– Я журналист.
– Из какой газеты?
– Из газеты «День».
– Хорошая газета, – похвалил Распутин, – настоящая! – Хотел добавить: «Меня не ругает!», но не сказал – она ведь хорошая не только поэтому, пригласил: – Заходи ко мне в купе.
– Благодарствую! – Журналист в холщовом костюме сдержанно поклонился.
– Ты мне нравишься! – сказал ему Распутин. – Еще раз благодарствую! – Журналист поклонился вторично.
– Я люблю журналистов! Опасный народец! – Распутин засмеялся и пощелкал пальцами. – С таким народцем лучше не ссориться – себе дороже станет!
Журналист деликатно промолчал.
– Как тебя зовут? – спросил Распутин.
– Александр Иванович!
– Лександра Иваныч… Сын Иванов. Русское имя, русское отчество – это хорошо. – Распутин достал из кармана щепотку семечек, кинул в рот. – А меня – Григорий Ефимов.
– Это я знаю.
– Заходи ко мне в купе, в общем, – сказал Распутин и бесшумно удалился – шаги его потонули в густом ворсе ковровой дорожки.
Сосед журналиста, пожилой земский чиновник с землистым одутловатым лицом, в пенсне с черным шелковым шнурком, выглянул в коридор, проверяя, ушел «старец» или нет, поинтересовался внезапно задрожавшим голосом:
– Это Распутин?
– Да!
– Червь вселенский! – Земец выругался. – Всякое было в России, а вот такого еще не было! Неужели вы пойдете к нему в купе?
– Не знаю, – журналист неопределенно пожал плечами.
– Не ходите! – попросил земец. – Вас же люди перестанут уважать. А вы, видно по всему, уважаемый человек!
– Спасибо. – Журналист открыто улыбнулся, улыбка у него была обезоруживающей. – Но как тогда быть с моей профессией? Я же журналист!
– Ну… ну… – Земец не нашелся что ответить, вздохнул и отвернулся к окну. – Поступайте как хотите, только не теряйте уважения, Александр Иванович.
– Я постараюсь, – просто, без всякой иронии произнес журналист, прислушался к женскому гомону, доносящемуся из коридора, понял, что женщины эти – с Распутиным, подумал, что надо бы написать об этом путешествии. Материал о Распутине никогда не пропадет. Если он и не понадобится сегодня, то обязательно понадобится завтра.
«С чего начать описание? С портрета? – Журналист посмотрел в окно в удивился тому, что поезд уже идет, – машинист тронул состав совершенно неприметно, плавно, без лязганья и грохота колес – вот что значит опытный человек! Серый задымленный перрон медленно полз назад. – Ну вот и пошел отсчет. Человек в дороге находится в новом измерении. В каком? В четвертом, наверное».
Земец привстал – он тоже не заметил, как поплыл назад перрон с людьми, – перекрестился.
– С Богом! – Земец открыл новый кожаный баул, достал оттуда курицу, завернутую в восковку – прозрачную непромокаемую бумагу, свежие, в крохотных пупырышках огурчики, две стопки и плоскую бутылку «Дорожной» водки – журналист видел такую водку впервые. – По старому русскому обычаю, – объявил земец и зашуршал восковкой, разворачивая курицу. – Не откажете?
– Ну что вы, кто отказывает соседу? Не принято, – улыбнулся журналист.
Земец разлил водку в стопки. Александр Иванович думал, что земец – ходячий сюртук, застегнутый на все пуговицы, с язвой, коликами в печени, несварением желудка и буркотней в кишках – такой у него недовольный, болезненный вид, – но земец оказался живым человеком, которому все мирское было не чуждо.
– За то, чтобы благополучно доехать, – объявил земец, поднимая свою стопку.
– Выпьем за это! – согласился журналист и ощутил в себе неясную тоску – такое уже было десять лет назад, когда он, желторотый юнец, еще только пробующий свои силы в газетном деле, попал на русские позиции среди двух темных маньчжурских сопок и потом под огнем пошел вместе с солдатской цепью в атаку.
Он мог не ходить, но для правдивости материала, для того, чтобы понять страх человека, бегущего навстречу пулям, – а японцы открыли тогда бешеный огонь, пули роились в воздухе, как мухи, от них, казалось, даже почернел день, – пошел цепью на японские окопы и чуть не погиб. Японцы выкосили половину русской цепи.
После той атаки журналист, забившись в какую-то сырую глубокую яму, горько плакал, бился головой о стенку ямы и никак не мог остановить себя: сдали нервы. Потом пришел санитар, усатый старый солдат с повязкой на руке, сделал укол, и журналист успокоился.
Атака та, сопки, мертвые солдаты в сочной зеленой траве снились ему потом лет восемь, только недавно перестали сниться, а щемящее чувство одиночества, внутренней пустоты, боли не проходит и сейчас, и когда оно подступает, то что-то цепко и сильно сдавливает сердце, дыхание пропадает, горло начинает драть какая-то соленая дребедень, не поймешь, что это – то ли слезы, то ли кровь, то ли еще что, и потом еще губы трясутся. Мелко, противно, долго.
Они выпили по две стопки, земец съел полкурицы, остальное спрятал, водку убирать не стал и замер в неподвижной позе, глядя в окно. Лишь в минуту особой расслабленности произнес:
– Колдовская все-таки штука – дорога! А притягивает-то как! Как притягивает, а? Как огонь и вода, ничего более сильного, чем дорога, вода и огонь, нету. – И замолк надолго: похоже, опьянел, а может, на него по-шамански сильно подействовала дорога.
В купе заглянул Распутин, пробил глазами журналиста.
– Чего ж не заходишь?
– Время еще не подоспело.
– Ко мне всегда можно! – Распутин подозрительно сощурился. – Может, гребуешь?[4]
– Нет, – сказал журналист.
– Смотри, Лександра Иваныч, – медленно произнес Распутин и прикрыл дверь купе.
«Ну что в нем особенного, что? – думал журналист, пытаясь понять Распутина, отметить в его чертах что-то необычное, колдовское, сверхъестественное. – Ну что? Борода и усы, как у многих мужиков России, цвет самый рядовой, крестьянский – темно-русый. Нос мясистый, книзу и в сторону, некрасивый, лоб несколько вдавлен, руки крепкие, волосатые, ноги – врозь. Корявые ноги-работяги. Сутулый, с припрыгивающей походкой. Распутин как бы крадется по земле, выслеживает дичь. Грудь впалая, но широкая. Бей сапогом – не пробьешь. Морщинист и устал – да, Распутин морщинист и устал не по годам… А сколько лет-то ему? Сорок шесть? Сорок восемь? Что-то около этого. И все время в нервном напряжении, то соберет в кулак бороду, сунет в рот и пожует ее, то начинает теребить нарядный поясок, которым перетянута его красная косоворотка, то почешет поясницу – он делает это быстро-быстро, по-мышиному, то поскребется у себя под мышками».
У Александра Ивановича – фамилию свою корреспондент «Дня» Распутину не назвал, и Распутин не интересовался ею, то ли уже знал, то ли надеялся узнать в Петербурге или спросить у самого журналиста позже, перед прощанием, – был приметливый глаз и толковое перо. Из таких журналистских перьев потом всегда выходили писатели, хотя журналисты проводили между собою и писателями четкую, очень реалистическую грань, и когда журналиста хвалили за хлесткую, умную статью: «Да вы настоящий писатель!» – он непременно поправлял хвалящего: «Да что вы, что вы! Я обыкновенный репортер!»
Знаменитого Кукольника <cм. Комментарии, – Стр. 85…знаменитого Кукольника…> вообще возвели в генеральский ранг: «Вы пишете гениальные пьесы!» Кукольник растерялся: «Пьесы пишет Чехов, а я только пером скриплю. Чехов – писатель, я же – невесть кто».
Вскоре Распутин пришел за журналистом вторично:
– Не-ет, ты всетки моим обществом гребуешь!
– Ни в коем разе!
– Тогда чего же не идешь?
Журналист поднялся с лавки, взглянул на земца, словно бы прося прощения, – он был из тех людей, которые не любили обижать других, земец ответил ему гневным взором, и журналисту сделалось обидно: напрасно его не понимает человек, он же при исполнении служебных обязанностей – при исполнении! – и вышел из купе вслед за Распутиным.
Ему было интересно знать, кто едет с Распутиным. Для статьи, которую он задумал. Для собственной надобности, для того, чтобы иметь полное представление об этом человеке, в конце концов! Распутин чесал поясницу, поглядывал в открытую дверь купе, – и верно, чесать поясницу – любимое занятие Распутина: лицо у старца делалось расслабленным, задумчивым, губы сладостно опадали, прятались в бороде – видать, Распутин отдыхал душой, когда чесался.
Рядом с ним, по левую руку, сидела девчонка лет четырнадцати, одетая в простенькую голубую кофту, мешком наброшенную на ее тело, с пухлым носом – сказывалась петербургская простуда – и сонливыми глазками. Портрет завершали две тощие, похожие на яблоневые сучки, косички. Руки у девчонки были грубые, красные, с обожженной кожей, сама она была очень нервная – на месте не сидела. Журналист понял так: это дочь Распутина.
И верно – дочь, Матрена. Распутин сказал ей:
– Поди погуляй, Матреша!
Девчонка с топотом умчалась в коридор.
По правую руку старца сидела девчонка-гимназистка, тоненькая, белая, нежная, но с улыбкой человека, знающего, что такое грех.
– Садись! – Распутин, приглашая журналиста, ткнул перед собою рукой. – Хорошо, что пришел! Это Надя, – представил он гимназистку. – Едет в Сибирь понять смысл жизни. Родители живут в Санкт-Петербурге, но собираются переместиться в Тобольск.
«Что же тебя, такую молоденькую, занесло в эту компанию?» – с жалостью подумал журналист, хрустнул пальцами. Вслух же произнес совсем не то, что хотел сказать
– Очень приятно!
Дежурная фраза, дежурная схема поведения.
Из-под столика, покрытого дорожной салфеткой, Распутин достал бутылку вина с блеклой старой этикеткой, показал журналисту:
– Это вино было сделано в те годы, когда родители нас с тобой еще и не замышляли, а может, и еще раньше. Видишь, даже буквы от времени стерлись. Люблю это вино. Тебе, Надюш, налить? – Распутин покосился на гимназистку.
– Немного.
– И то хорошо, – одобрил Распутин, глянул в окно, за которым плыло одинокое вечернее поле с густыми рядами зелени и хилым зубчатым леском, обрамлявшим дальний край, ткнул туда рукой: – Вот за что надо выпить – за землю Русскую, за мужика, который ковыряется в ней, за зерно, что прорастет и станет хлебом.
– Хорошая мысль! – похвалил журналист.
– Эх, Лександра Иваныч! – неожиданно растроганно проговорил Распутин. – У меня этих мыслей полон черепок. – Он стукнул себя пальцами по голове. – Не вмещаются, переливают через край. И все для простого мужика, все за него – я жизнь свою за него не пожалею! – Распутин снова ткнул пальцем в окно, за которым тихо уплывало назад зеленое молчаливое поле. – За то, что он землю эту обиходил, бросил в нее зерно, заставил жить! И все вот этими вот, – он показал журналисту одну руку, свободную, левую, – такими вот руками обиходил. Выпьем за русского мужика!
Выпили. Гимназистка выпила тоже – она, похоже, вообще не любила отставать, маленькими глотками опустошила стопку, вытерла губы ладонью – в ней было сокрыто что-то очень детское, доверчивое, нежное, требующее защиты, и журналист, ощущая в себе отцовскую жалость, чуть было не сделал к ней движение, чтобы прикрыть ее; защитить от Распутина, но «укололся» о твердый, недобрый взгляд «старца». Ему показалось, что Распутин все понял, и журналист решил увести разговор в сторону, поднял стопку, чтобы резное стекло поймало темный вечерний свет.
– Доброе вино, – похвалил он.
Распутин, выдержав паузу, отозвался:
– Плохих не держим!
– Когда пьешь вино, главное – не вкус, а послевкусие, то, что остается на кончике языка. Последнюю каплю надо прижать языком к нёбу и послушать ее. Вкус этой капли и будет вкусом вина. Марсала всегда имела сложный вкус. Мадера – тоже. Вы, я слышал, мадеру любите?
– Люблю.
– Это вино с многослойным вкусом. В нем много чего есть: и жженая хлебная корочка, и сушеная груша, и еще что-то, не имеющее, по-моему, названия.
– Главное – варенья нет, – вставил Распутин, – не люблю, когда в вине – варенье. Не вино тогда это, а сироп.
– Да, варенья в ней нет, – согласился журналист.
– А ты, я вижу, специалист по этому делу, – сказал Распутин и добавил с непонятным выражением в голосе, то ли одобряя, то ли порицая: – Лександра Иваныч!
– Нет, – не согласился с Распутиным журналист, – просто я наблюдательный человек. Это же моя профессия – видеть, запоминать, описывать. Я слышал, Григорий Ефимович, что вы собираетесь организовать газету? Вроде бы и название уже есть – «Народная газета»?
– Что, разве плохое название? – Распутин смял бороду, подергал ее, потом пальцами расчесал, словно гребенкой, уложил на груди. Руки у него все время находились в движении, не лежали на месте. – Верно, я собираюсь основать газету, хотя название еще не придумал. А что, «Народная газета»… А? Звучит неплохо. Я думал даже такое название дать: «Специально для народа». Не очень-то вкусно, проволокой отдает, но зато верно. Пойдешь ко мне работать? – Распутин сощурился, отодвинулся от гимназистки и в упор глянул на журналиста.
Тот выдержал взгляд и спокойно поставил пустую стопку на столик.
– Я уже работаю.
– Буду платить больше!
– Разве в деньгах дело?
– Верно, не в деньгах. Я считаю – в грамоте. Какая моя самая большая беда и забота, а? Грамотешки маловато. Поднабраться бы грамотешки – и можно делать и газету, и книги, и даже целое издательство. Но ничего, ничего, грамотешку я все равно одолею, поднатужусь, подтяну ремешок на мозгах и одолею. И главное дело моей газеты будет борьба с пьянством. Я в молодости пил, очень пил, а потом понял, что это беда.
Александр Иванович вспомнил, что одна из газет напечатала приметную фразу Распутина, которую тот несколько раз произнес, встречаясь в Покровском со своими односельцами: «Я был пьяница, табакур, потом покаялся, и вот видите, что из этого вышло!»
Впрочем, в Покровском его хоть и уважали, но считали за своего. Впрочем, Тюмень его тоже принимала за своего и особо высоко не поднимала. Чужим он был только в Тобольске.
– Значит, не пойдешь ко мне в газету? – Распутин насмешливо сощурился.
– Не знаю. Не готов к предложению.
– А жаль! – искренне огорчился Распутин. – Мне нужны будут такие люди, как ты. И чтобы мозгой шевелить умели, и чтоб обаяние было. Непривлекательный человек – это непривлекательный человек, он многого не сделает. Особенно в таком деле, как это. – Распутин выразительно поводил по воздуху пальцем, изображая перо.
В купе всунулся молодой гражданин, которого журналист раньше не видел, – коротенький, с толстыми ногами, в желтых скрипучих туфлях, с золотой цепью через весь живот, в серой теплой шляпе. Рыжеватые усы распущены, топорщатся воинственно, как у гусара.
– Григорий Ефимыч, ничего не нужно-с?
– Принеси еще бутылку марсалы.
– Слушаюсь! – Рыжеусый вскинул к шляпе два пальца и исчез. Это был, как понял Александр Иванович, секретарь или нечто – некто – в этом роде. Через три минуты он снова появился в купе, держа в руке запыленную бутылку марсалы. – Прошу-с!
– Молодец! – похвалил Распутин. – И года не прошло!
– Обижаете, Григорий Ефимыч, – укоризненно произнес молодой гражданин, протягивая бутылку Распутину.
– А кто пробку выбивать будет? Я?
– Слушаюсь! – Рыжеусый вновь исчез из купе.
– Хороший человек, способный. – Распутин покачал головой, – ловкий, верткий, услужливый, но… Но! – Он поднял указательный палец. – Всегда в человеке есть какое-нибудь «но», и мешает оно, мешает… Как танцору толстые каблуки! Главное «но» наше – лень! Но! – Распутин поднял указательный палец еще выше. – У меня тоже есть свое «но». Люблю я этого парня, душой привязан к нему и менять на другого не буду.
За стеной хлопнул глухой выстрел – способный молодой человек благополучно выбил пробку из тугого обжима горлышка. В коридоре сочно запахло старым вином.
– Прашу! – Молодой человек в третий раз появился в дверях распутинского купе. – Свежайшее!
«Что свежайшее? Марсала? Тогда будет «свежайшая», – подумал журналист. – Или напиток? Тогда будет «свежайший». С ударениями что-то не очень. А потом, марсала-то – старая. Старое и свежее – разные понятия».
– Как думаешь, война с германцем будет? – задал Распутин вопрос журналисту, в последние дни он об этой войне думал все больше и больше.
– Ею пахнет, она просто висит в воздухе, Григорий Ефимович!
– А я не допущу! – сказал Распутин. – Не допущу, чтобы русского мужика убивали ради французского капитала.
– Ну-у… этот вопрос неоднозначный. Думаю, французский капитал сильнее русского мужика. Я даже не знаю, кто будет решать этот вопрос. Наверное, кто-нибудь повыше царя. А кто это будет, а? Кто выше царя?
Гимназистка Надя неожиданно хихикнула и показала пальцем на Распутина. Журналист отвел глаза в сторону, встал.
– Спасибо большое, Григорий Ефимович, за хлеб, за соль, – поблагодарил он.
– Ты это… ты заходи еще! Сегодня же и заходи. И вообще почаще заходи, ладно? – Распутин привстал, словно бы желая поклониться, и тут же опустился на диван. – Марсалы до самой Тюмени хватит! И мадера есть! – Распутин махнул рукой, словно бы благословляя журналиста.
Хоть и не познакомил Распутин журналиста со своим окружением – кроме Матреши и гимназистки Нади, Александр Иванович вроде бы не должен был никого увидеть, а он увидел все и всех и лишний раз уточнил портрет Распутина – все совпадало с тем, что он наметил, чистовой холст один к одному совмещался с подмалевком. Как у хорошего живописца.
«Больше всего – кроме, естественно, марсалы, мадеры и девочки Нади – Распутин любил чесать себе спину, – записал журналист в блокноте, – точнее, не спину, а ниже – поясницу. Делает это суетливо, будто насекомое. Еще любит скрести себя под мышками. Это не от грязи, нет, ибо старец сказал, что он и дома, и в поезде по два раза на день принимает ванну, – а от нервов. Что-то в нем натянуто до предела, струны звенят, а может, какая струна и надсеклась, лопнула, вот человек и неспокоен, вот и не может посидеть и минуты без движения, без чеса и скребков».
Он потом еще раз проверил собственные наблюдения, наблюдательный Александр Иванович, и через некоторое время напечатал у себя в газете под псевдонимом Путешественник: «Этот человек спокойно и минуты не посидит. Вот зашел в купе, а уже через несколько секунд, вбирая голову в плечи, выскакивает, щупает глазами по сторонам и бегает в проходе вагона, нервно потирая руки, бормоча и иногда выкрикивая что-то непонятное.
У него взгляд тающий, сладко замирающий на людях. Когда он с кем-то говорит, наклоняет голову набок и глядит на собеседника нежно и лукаво, как бы шепча:
– Меня не обманешь…
А когда ни на кого не глядит, то преображается: глаза принимают естественное выражение – выражение это злое, полное ненависти ко всему».
Земец уже спал, сладко причмокивая губами, – лицо его обвяло, сделалось безмятежным, порозовело – исчезла нездоровая землистость, выдающая в нем желчного человека, над ним, на верхней полке, лежал толстый человек со старомодными бакенбардами, спускающимися от висков к подбородку, очень низко – выбритым оставалось только малое пространство, – помещик из Казанской губернии, наверняка помещик, который гостил у приятеля в соседнем вагоне и поначалу отсутствовал, потом пришел, пытался выпросить у земца нижнее место, но земец не уступил. Над журналистом тоже определился пассажир, уютно укрылся одеялом под самый подбородок – студент из Санкт-Петербурга, направляющийся в отчий дом на каникулы.
Студент читал газету – был он юн, белобрыс, глазаст и зубаст, – стрельнул в Александра Ивановича взглядом и приподнялся на подушке, приветствуя его. Помещик на своей лежанке даже не пошевелился. Держать в памяти людей, которых Александр Иванович увидел у Распутина – штука обременительная, перегруженный мозг всегда может подвести, лучше все записать сразу, поэтому Александр Иванович разделся, лег, зажег ночничок и достал из походной сумки блокнот.
«Окружение Распутина. Две матери с дочерьми, широкогрудая массивная дама лет тридцати, красивое лицо, но жирная; худая, гибкая девушка с жаждущими глазами». Ее журналист про себя окрестил Эвелиной и потом вздрогнул от неожиданности, когда услышал распутинский оклик: «Эвелина!» Девушка на этот зов готовно обернулась, ее действительно звали Эвелиной, журналист угадал. Он вообще обладал даром попадать в точку. Записал несколько слов и о Наде: «А рядом – девчонка-гимназистка, тоненькая, нежная, беленькая, но с греховной улыбкой. Тощая увядающая дама стремится посидеть у окна, и ветер треплет ее короткие волосы – она, как курсистка, мотает головой. Величественная старуха, которая опирается на руки своей дочери. Седой кок открывает прекрасный лоб. Распутина все женщины зовут про себя “отец”. Но у всех – потухшие глаза, даже платья, украшенные золотом и бриллиантами, беспомощно висят на них». Александр Иванович писал мелкими, как пшено, буквами, очень скоро, и все равно, несмотря на скорость, когда он закончил писать, попутчики его уже спали – помещик и земец, соревнуясь друг с другом, храпели, студент тихо уткнулся лицом в стенку и замер. Александр Иванович погасил ночник, попытался уснуть, но не тут-то было – мешал стук колес, храп, скрип вагонных суставов и Распутин. Он долго думал о Распутине и уснул лишь где-то в середине ночи.
Проснулся он от голоса земца, тот сидел на мягком железнодорожном диване и на распутинский манер почесал у себя под мышками.
– Всякое бывало у нас в России, но такого еще не было! – приговаривал он раз за разом – слова эти для него сделались присказкой, обязательным текстом, припевом – видать, Распутин выкинул что-то такое, о чем журналист еще не знал.
От земца пахло курицей – он уже позавтракал. Грудку куриных костей, завернутых в газету, земец еще не выбросил. Помещик сидел рядом с ним и зевал.
– Доброе утро, – приветствовал журналиста студент. Студент был хорош собой – красив, как девушка, наряден: одет в белую форменную курточку с золочеными пуговицами и хорошо отглаженные светлые брюки, он походил на принца, прибывшего с визитом из малой страны в большую Россию.
– Доброе, – отозвался журналист.
– Ну что ваш этот самый… покровитель? – неприязненно спросил земец.
– Да ничего, – неожиданно устало ответил журналист – ему и этот землистолицый земец стал противен, и толстый помещик с тупым, упрямым взглядом, которого надо, как минимум, два месяца не кормить, чтобы он обрел нормальный вес и формы, и Распутин с его окружением, – в следующий миг подумал, что он так же груб, как и этот неотесанный земец, и поперхнулся собственным голосом. – Извините, – сказал он, – что-то я плохо спал сегодня.
– Дорога, – студент приветливо улыбнулся, – в дороге всегда плохо спится.
– Не скажите. – Земец покачал головой. – У кого какой организм.
Помещик угрюмо молчал.
Днем напротив открытой двери их купе остановилась гимназистка Надя, держась за поручень, подтянулась к окну, начала водить головой слева направо, провожая заоконные виды – красную, с длинным резиновым хоботом водокачку, заляпанный грязью пароконный фургон, увязший в размокшей дороге по самые оси, стаю бесстрашных ворон, шурующих у самого полотна, группу старых женщин, уныло бредущих по обочине. Гибкая точеная фигурка гимназистки соблазнительно изогнулась – было в этом движении что-то призывное, нежное, очень женственное, студент не выдержал, поправил воротничок рубашки, одернул на себе куртку и шагнул в коридор.
Встал рядом с гимназисткой у окна. Та готовно подвинулась.
– Европейцы любят смотреть на огонь, находят в нем что-то колдовское, таинственное, живое, азиаты – на воду, им нравится видеть, как течет вода, в движении воды тоже есть колдовская сила, она привораживает, а русские всему этому предпочитают дорогу. Русский человек может сутками стоять у окна и не отходить от него.
– Наверное, потому, что русские – не азиаты и не европейцы, а что-то среднее между ними.
Студент внезапно рассмеялся, потом прихлопнул смех рукою.
– Извините, пожалуйста, в голову пришла неожиданная мысль…
Гимназистка прогнулась еще больше: да, в ней, несомненно, было что-то взрослое, греховное – все правильно, отметил журналист.
– Какая же мысль?
– Русские любят смотреть на дорогу скорее всего потому, что нигде нет таких дорог, как у нас. В России самые плохие в мире дороги. – Студент сделал неопределенный жест, он занимался дорожным делом в университете. Гимназистка разом поскучнела, глянула искоса на студента: хорош собою, строен и красив, но глуп. Она вздохнула.
Послышалось глухое буханье ног по ковровой дорожке, журналист сразу угадал – Распутин. И точно, у окна возник – Распутин, нервный, быстрый, в лиловой, блестящей, будто у цыгана, рубахе – красный цвет он сменил на лиловый, – молча и решительно оттеснил студента от гимназистки, потом сделал короткий, почти неуловимый шаг, и студент вовсе оказался блокирован; Распутин находился между ним и девушкой.
– Надя, пошли в купе, – требовательно проговорил Распутин, – нас ждут.
Гимназистка заупрямилась, углом приподняла острые хрупкие плечики, но Распутин был настойчив, обхватил ее рукой, окончательно оттеснил студента – тот вновь очутился в своем купе, – Распутин глянул на него зло, вполуприщур, и, словно бы огнем обдал, в следующую минуту он увел сникшую гимназистку в свой конец вагона.
– Ну и ну, – переводя дух, словно после бега, неверяще проговорил студент.
– Всякое Россия видела, но такого не видела, – взялся земец за старое.
– Он же колдун, он леший, он огнем обжигает. – Голос у студента сорвался на шепот.
«Распутин все чувствует, все читает своим взглядом – читает чужие взгляды, и глаза его, как отмечают многие, меняют цвет», – записал журналист у себя в блокноте.
Когда в следующий раз журналист заглянул к Распутину, тот с деревянным хрустом давил рукой сушки и кормил ими Эвелину, протягивая ей на манер блюдца открытую ладонь с кусками сушек. Эвелина покорно нагибалась и, будто телушка, брала ломаные сушки с ладони губами.
– Заходи, Лексанцра Иваныч, – добродушно пригласил Распутин, – давно не был. Гребуешь, журналист, ей-ей гребуешь. – Тон его сделался укоризненным. – По поведению вижу. А ты не гребуй, мы с тобою из одинакового теста сделаны. Вот она не гребует. – Распутин погладил Эвелину по голове, и Эвелина послушно склонилась к его ладони. – А голубица-то благородных кровей, дворянка… Садись, Лександра Иваныч, сейчас мы с тобой мадеры выпьем.
– А может-с, в ресторане, Григорий Ефимыч? – спросил возникший в проеме купе секретарь. Пальцем вспушил усы,потом, ухватившись за золотую цепочку, вытащил из жилетного кармана толстые серебряные часы, отщелкнул крышку. – Уже пора обедать, Григорий Ефимыч!
– Ну что ж, можно и в ресторане, – согласился Распутин, – через двадцать минут.
– Тогда я мигом-с, Григорий Ефимыч, – заторопился секретарь, – надо, чтоб осетринку успели запечь.
Распутин скормил Эвелине остатки сушек, подержал в руках пустую веревку, которой сушки были связаны, швырнул ее под ноги, нагнулся и из корзины, стоявшей внизу, в багажном отделении, достал очередную связку лаково поблескивающих, посыпанных маком сушек.
«Это сколько же всякого добра увезено из Петербурга? – задал себе невольный вопрос журналист. – Сушки, сушки, и все с маком, яблоки, конфеты, бублики, калачи…»
– Погоди, – сказал ему Распутин, схватив лукошко, сдернул с него вафельное полотенце. В лукошке были конфеты. – Сейчас угощу паству и вернусь.
Он поднялся, но не успел выйти, как на него накинулась Матрена, ухватила рукою лукошко:
– А мне? Мне!
– Возьми, сколько надо, и отстань, – сказал отец, – и взрослых постыдись… Вон сколько взрослых! – Матрена набрала две горсти конфет и отстала.
– Девчонка не хуже других, – проворчал Распутин, вернувшись в купе, – а вот устроить мне ее не удалось. Тьфу! Начальница дерьмовая попалась. Ей ведь указали – сверху указали, – он показал пальцем в потолок, – что есть такие веления, не исполнить которые она не может – не она главная! А эта ведьма заявила, что исполнить-то исполнит, примет Матрешу в свое благородное заведение, но тут же подаст бумагу об отставке. Тьфу! – История, которая попала в газеты, глубоко, видать, сидела в Распутине. У него зло раздулись ноздри, взгляд погас. – Но никто понять не хочет, что мне из нее человека надо сделать, манерную даму. – Журналист невольно отметил выражение «манерная дама». – Из света, из общества! Может, это единственный случай, когда можно отыскать мостик, отделяющий аристократа от неаристократа, но нет! – Распутин широко развел руками. – Ты пойми это, Лександра Иваныч, ты разберись, ты напиши! Знаешь историю про мою Матрену?
– Слышал.
– Вот и напиши!
Журналист промолчал.
– Я же говорю тебе: гребуешь ты нами, – остывая, произнес Распутин, – а ты возражаешь, считаешь, что нет. Ух не возражал бы! – Распутин вздохнул, поднялся. – Ладно, пошли в ресторан. Симанович небось осетрину уже не только поджарил, но и закоптил.
Журналист понял, что фамилия рыжеусого коротконогого франта – Симанович, наморщил лоб, вспоминая, слышал эту фамилию или нет. По всему выходило, что не слышал. Нехотя поднялся – не мог решить для себя, надо идти в ресторан или нет. Земец опять надуется, посереет, выпятит губы, толстый помещик просто брезгливо отвернется… Ну как они не могут понять, что Распутин интересен для него сугубо профессионально, как литературный тип, как ходячий образ и вообще как человек, о котором нет однозначного мнения, – одни льнут к нему, поют хвалу, возносят на небеса, а другие относятся с презрением, льют хулу и стремятся втоптать в грязь. Для пишущего человека такой тип – находка! Но земец с помещиком не хотят осознать этого – дуются, чванятся, делают кислые рожи, будто козы, объевшиеся щавеля.







