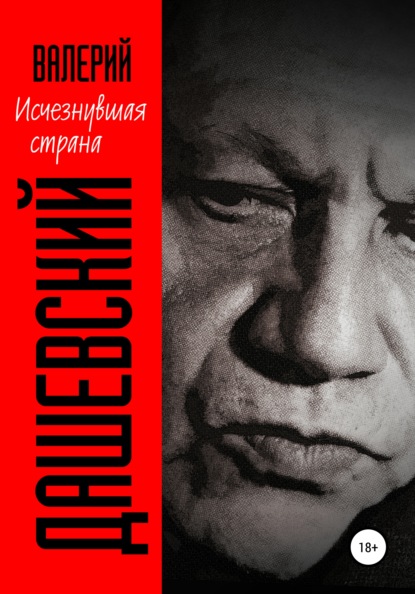Полная версия:
Валерий Дашевский Вернувшийся в Дамаск
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Валерий Дашевский
Вернувшийся в Дамаск
«Мы непрерывно разговариваем с собой о нашем мире.
Фактически, мы создаём наш мир своим внутренним диалогом.
Когда мы перестаём разговаривать с собой,
мир становится таким, каким он должен быть.
Мы обновляем его, мы наделяем его жизнью, мы поддерживаем его
своим внутренним диалогом. И не только это.
Мы также выбираем свои пути в соответствии с тем,
что мы говорим себе.
Так мы повторяем тот же самый выбор ещё и ещё,
до тех пор, пока не умрём».
Карлос Кастанеда «Колесо времени»
«Смысл не прилагается к жизни.
Нет иной системы, кроме той, которую мы придумываем сами,
когда слишком много думаем об этом.
Нет иного смысла, кроме придуманного»
Ж. П. Сартр.
«…встань и иди в Дамаск; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать».
Деяния апостолов, Глава 22, стих 8
1.
Утром, когда мы вошли в лифт, на меня опять накатило, и пока мы стояли на улице в ожидании подвозки, я думал о том, располагают ли к воспоминаниям зеркала (в лифте зеркало на всю стену) и что в зеркале становишься с другим собой, о self-image, ложном опознавании, о том, что увидеть себя мы можем только глазами другого, и почему мы не можем вглядываться в свое отражение подолгу, о Нарциссе Дали и о том, как все это, в сущности, трагично. И снова перенесся с простершейся под утренним небом израильской улицы в ту свою давнюю снежную зиму так же привычно и незаметно для себя, как переходишь из света в тень, из тени в свет. Я знаю об этих своих возвращениях все, что можно было выяснить, за столько-то лет! Ответы – если это ответы – в статьях на моем столе. Я не нахожу нужным прятать их. Ирка не станет рыться в моих бумагах. Она изучила меня вдоль и поперек и достаточно разумный человек, чтобы понимать: то, чего она не знает, ей не вредит. Она живет настоящим, здесь и теперь, и, вздумай я поделиться с ней, скорее всего восприняла бы это с тем вялым любопытством, с каким женщины воспринимают все ненужное и непонятное. Ко всему прочему она терпеть не может, когда говорю о прошлом, в котором ее не было со мной. Махнув мне рукой с той стороны улицы, она умчалась на пробежку к гостинице «Кармель», а я уже звонил Наташе из автомата на Рымарской1, что напротив Загса, спрашивал, почему она до сих пор дома и, не слушая отговорок (у нее много работы), говорил, что прилетел развестись с ней и без этого не улечу. Говоря это, гляжу на небо – серое, мглистое, нависшее над заснеженной улицей, на эбонитовую телефонную трубку, влажную от моего дыхания. Моя память устроена своеобразно. Память больше знает, чем помнит. Помнит знание. Вспоминая что-то из случившегося – видя, подчас с фотографической точностью, – я не слышу голоса, ни ее, ни собственный, ни чужие, переживая – проживая заново переживаемое годами то, что пережил тогда, – я всякий раз слышу не наши голоса, а другой, беззвучный, но сохранивший и тембр и интонации говоривших. Думаю, это голос памяти. Его и слышу в полутемном коридоре Загса, где, сидя рядом со мной в деревянных «театральных» креслах , Наташа говорит с дрожью в голосе, чтобы прекратил играть перчатками. Переспрашиваю, что не так, тебя, что, раздражает, и в ответ на ее «да» спокойно говорю: а многим нравится. Она сдерживается, чтобы не расплакаться. Она не накрашена. От ее красоты – ни следа. Только веснушки, придававшие ей французский шарм. Она зябко ежится под своей крашенной шубкой. Когда все кончено и мы выходим наружу, она не может идти, стоит, держась за водосточную трубу, посреди пасмурной зимней улицы. Говорю: провожу тебя до остановки и еще что-то, пока переходим Сумскую по грязному подтаявшему снегу, на остановке продолжаю, что надо бы отметить это дело, посидеть в ресторане вечерком, а когда она отказывается (если пойдет, то не со мной), говорю: как знаешь, – и иду прочь, не дожидаясь, пока она сядет в автобус. И боли нет, как не было, пока мы были вместе, и этому тоже нет объяснений.
Димкина подвозка – беленький фольксвагеновский микроавтобус с подъёмником и двумя сопровождающими, один, помоложе, из религиозных, в черной кипе и в очках, обожает Димку. Он тут же забирает у меня коляску, что-то радостно втолковывает моему мальчику, но Димка все равно смотрит на меня умоляюще. Пока они загружаются, мимо проходит старик-охранник, тоже из религиозных, тощий, кудлатый как цыган, в мятой белой рубашке и в черных брюках, с пистолетом на поясе и здоровенной связкой ключей на карабине, как у них у всех. Еще одна дурацкая традиция. Ожидавшие на ступенях школьники вскакивают , толпятся, пока он отпирает ворота, чтобы впустить их в школьный двор. Начинается день.
Наша терраса с панорамным остеклением и окно кухни выходят на море, синеющее вдали, за чередой крыш – островерхих, плоских, односкатных. На каждой – солнечные батареи «Хеврат-Хашмаль» – панели с бойлерами, на которые смотрю по утрам, пока остывает кофе. Напротив нашей террасы задний фасад синагоги. Доминанта: Менора Ханукия, семисвечник на ее крыше. Краски блеклые от зноя в этом умиротворяющем однообразии.
Стоя у окна нашего smart home, слышу свой голос, как бывает, когда ничем не занят и остаюсь один: «А чего ты ожидала? Думала, я стерплю и буду дальше сходить с ума в Москве от горя и муки, думала, у меня духу не хватит вырвать тебя – пусть не из памяти – из души, из моей жизни, причинить тебе столько же боли, сколько ты причинила мне? Будь ты проклята. Вот теперь ты сама по себе. И все в прошлом!» Это ее слова. «Я теперь сама по себе. И все в прошлом». В Загсе, сидя напротив меня у стола служащей, Наташа смотрит на меня в упор, затравленно, с немым пронзительным отчаянием, отвечая невпопад, не вполне понимая, что ей говорят; из своего эмигрантского далека я обращаюсь не к ней, а к собственному переживанию. Я понятия не имею, с кем она живет, чем и что с ней сталось. В данном случае это не существенно. Память безгласна. Потому-то я не слышу ничьих голосов, кроме собственного. Все хранит только искусство, но, конечно же, и это не так. У меня сохранились две ее фотографии и карандашный набросок, на котором особенно удачно получились губы: схвачена тень исступления, которым начинаются оргазм или истерика. В те годы я был не способен на большее. Не важно. Той женщины нет. Скорее всего я не узнал бы ее при встрече. Мне тогда удалось сохранить достоинство, а это главное, если верить лекциям и статьям на моем столе, хоть она делала все, чтобы меня угробить, и по началу ей это почти удалось. Вдобавок, я запорол вещь, которую начал, написав полтораста страниц.
Сперва я думал, что мне не хватило дыхания. Потом – что сел за работу, не сумев найти правильную позицию. Я попытался превратить страдание в драму, поверить бумаге свою боль? Может быть. У меня был потрясающий сюжет, но ничего не вышло из тогдашней моей попытки объясниться с миром. Я не понимал, о чем роман: об истории любви, судьбе художника, порочности искусства в солганном государстве, что я пишу – исповедь или авантюрный роман о молодом писателе, вернувшимся за женой в родной город. Мне не дался женский образ, и немудрено. Я не понимал ее. Ни того, что она делает и зачем. Я влюбился в нее школьником девятого класса. Она была на год старше и до последней минуты не дала мне забыть об этом. На фотографиях она осталось той, какой была за год до развода в фотоателье Вадика Шенкмана: отрешенной и немного печальной. В ее красоте было то же, что у Авы Гарднер и у темноволосых кинобогинь сороковых , но глаза были больше, глубже и умнее, лицо – выразительней, живее, чувственней. Такие сводили с ума, многих и я не был исключением. Шенкмановские фото я храню в коробке из-под обуви с другими фотографиями из прошлой жизни. В остальных коробках книги, которые никак не разберу. Мамад2, оборудованный Иркой под мой кабинет, полон культурных артефактов – дисков, визиток, пропусков, блокнотов, оставшихся от моего великого управленческого прошлого, на столе статуэтка Дон Кихота каслинского литья, подаренная мне матерью, и это все. Пачку оплаченных счетов за телефонные разговоры с ней, перехваченную резинкой, я выбросил давным-давно. Это не имеет значения. Достаточно толчка или флешбэка, как они там пишут, чтобы я оказался на Кутузовском напротив гостиницы «Украина», в роскошной квартире, которую снял для нас, простояв два месяца на Банном переулке в лютый мороз. Сидя за письменным столом в эркере, я чуть было шею не свернул, изо дня в день высматривая, не идет ли она по двору, вместо того, чтобы работать. Стадия неприятия горя, так, кажется.
Белые простыни, вывешенные на террасе, плещутся на ветру. Глядя на них из прохладного безмолвия гостиной, я думаю, что страдание необходимо. Patior ergo sum. Страдаю, следовательно есмь. Избавиться – значит перестать быть. Раствориться в чуждой повседневности, в man бесцветного массового бытия. От чего меня надежно оберегают мои психопатологические репережива́ния, Ирка, мой мальчик и мое искусство. Малая смерть мне не грозит. Подлинность моего самобытия неоспорима. Я нашел грань между повторяющимися переживаниями и действительностью, между интроспекцией и творчеством, существованием и жизнью. Ирка знает, с кем живет, и относится к этому терпимо. Лишь бы я исправно вел дом и гулял с Димкой на ночь глядя. К тому же, эти мои выпадения из реальности длятся минуту, от силы две. Темная сторона есть у каждого, сказал некогда Доктор Юнг, как ни банально это звучит in the case3. Это доводилось испытывать многим – болезненное воспоминание приходит снова и снова безо всяких причин, вызывая сильный стресс. Таково действие хорошо известного нейробиологического механизма, не изученного до конца. Такие воспоминания живут своей сложной жизнью, вторит ему Павел Балабан4.Травма является навязчивым воспоминанием, которое, к сожалению, время от времени всплывает и самоподтверждается. Эта память самоподдерживается в очень сильной форме. Позитивное воспоминание может ослабнуть, а негативное – никогда. Воспоминания остаются с нами на всю жизнь. Память как бы перезаписывается. Ну то ж. Когда страдания и счастья поровну, обретаешь спокойствие. Естественное равновесие. Самое лучшее – сохранять постоянство перед лицом и страдания, и счастья5. Чем я и занимаюсь изо дня в день в Земле текущего молока и меда.
В снах я не вижу ее. Но если проснусь среди ночи, разбуженный гулом тяжелых вертолетов, пролетающих к Сирийской границе, и выйду на террасу – к ночному бризу, к небу полуночи, к огням Меноры над синагогой и огонькам нефтедобывающей платформы у где-то у кромки мира, могу внезапно увидеть Кутузовский в огнях и фонари набережной, горящие окна гостиницы «Украина» и высотки СЭВ за мостом, в недвижимой духоте догорающего лета, и мне, подавленному, оглушенному снотворным или спьяну, снова чудится, что мгла над электрическим заревом проспекта полнится биением разбитых сердец. Если такое случается, я иду досыпать к Димке, дышу ему в затылок, как маленькому, растворяясь в его соболином запахе, в дремотном тепле. Проснувшись, спускаюсь в предутреннюю рань и птичий гомон – в продуктовую лавку на углу. Или, если обошлось без воспоминаний, возвращаюсь в свою постель, чтобы начать день с «Модэ ани»6. Других молитв я не знаю, и думаю, Господу все равно, молюсь я ему на иврите или нет. Он ведает, что благодарность моя от сердца. За все: за мою жизнь, за Ирку и нашего мальчика, за дом, за страну, в которой живем, за планы и надежды, за настоящее и будущее, в которое мы с недавних пор смотрим без страха и тревоги. Ирка годится мне в дочери, но ведет себя, как мать. Она мой смысл, мое яркоглазое и белозубое чудо. Я так и говорю ей: мой смысл. Она подарила мне Димку, семью и жизнь ее сверстника. Посему мне приходится проводить немало времени на тренажерах у моря. Израиль изменил ее. В ней поубавилось лучистое доброжелательство, ошеломившее меня при первой встрече, уж больно тяжело дались ей Димка, эмиграция, годы учебы и работа в ее арабской клинике в Иль-Яффе. Мы приняли нашу израильскую действительность, насколько это было возможно.
Утром звонят в дверь. На пороге два веселых ортодокса с серебряной кружкой. Увидели меня, обрадовались: «русский»! Показывают в потолок: «Бог любит всех!» (читай: даже тебя!). Ну, ясно: Бог там, он любит всех, даже меня. Отдал им всю мелочь. На мне написано, что я русский? Может быть. Месяц назад четверо приезжих кричали мне с другой стороны улицы: – Товарищ, как пройти к каньону Ха-Шарон? Вы говорите по-русски? Вы же из Советского Союза?
«Вкладывайте в собственную приспосабливаемость» призывает Харари7. Вот лозунг, который я начертал бы на фасаде Министерства абсорбции. По Харари наша проблема в понимании работы и в тревожности ее потери. С ненужностью, более страшной, чем эксплуатация, мы сталкиваемся уже сейчас. Технические революции будущего вынудят «переизобретать» себя, дабы быть востребованными в обновляющемся мире алгоритмов, роботизации и биотехнологий. Биометрические сенсоры начнут все понимать, все отойдет биоинженерии, бионическим рукам, компьютерным интерфейсам в мозге, резервным иммунным системам и неорганическим формам жизни. Мы останемся субъектами манипулирования и тотального контроля цифровой диктатуры. Что ж, может быть. Так далеко я не иду. Ненужность – предикат эмиграции. Заселявший нас в первую квартиру маклер, в житейской мудрости не уступавший Харари, предупредил: запомни, в Израиле никому ничего не нужно, и и поиметь тебя хотят все. В чем-то он был абсолютно прав, кое в чем недалек от истины. Понимание работы сводится к ее смыслу. После нас не останется ни следа. Исключения подтверждают правила. Я ничего не построил. Проекты, которые я вел, запродавались «в бумаге» с разрешениями на строительство. Я был создателем прибавочной стоимости. Прибавочной ценности (surplus value). Компании, на которые я работал, канули, будто не существовали вовсе. В стройкомплекс Правительства Москвы пришли новые люди. Книги не шли. Они были о временах, которые предпочитали не вспоминать. В Москве работа была моим убежищем. В Израиле я оказался на улице не нужным никому, кроме семьи. Понадобился год, чтобы мы выбрались из подвала, в который нас заселили для начала. Я толком не выучил иврит, боясь, что он вышибет мой русский, а это все, что у меня осталось. Я брался за что придется. Иммиграция – это когда ты, топ-менеджер, таскаешь железные двери за столяром, старым дураком, преподававшим в профтехучилище во время оно.
Первые годы дались мне не просто. Жизнь разложилась на обязанности и мое собственное житье-бытье. Израиль влюбляет в себя, когда перестаешь замечать то, что режет глаза. От некоторых привычек лучше избавиться. Израиль – край, в котором первозданность переходит в первобытность. Это Левант. Ближневосточная грязь. Трущобы. Рынок времен Британского мандата. Гардероб не уместен. Нет смысла бриться. Нет смысла гладить рубашки. Некуда надеть галстук, костюмы, плащи. Иркины шубы про сей день висят в шкафах. В коробках итальянские сапоги и туфли, купленные в Carlo Pazolini и Modoza. Я так ни разу и не надел свои швейцарские часы Cover. Кажется, все эти годы я прошагал за Димкиной коляской с непокрытой головой в сорокаградусную жару, в сланцах, шортах-милитари с накладными карманами, в черной майке и темных очках. Мои умозрительные представления развеялись в первые недели. Я видел руины, украшенные вывесками, подворотни ремесленников, в которых мочились псы, столики уличных кафе среди окурков и плевков, мертвые улицы в Шаббаты, объедки, обноски, сломанные игрушки, тряпье, надорванные коробки, разодранную мебель, кровати в жутких подтеках, записанные кресла; стаканчики с опивками, обертки, засунутые за скамьи и поручни автостанций, орущих старух в автобусах, с кольцами на жирных пальцах, тугоухих стариков, согнутых в дугу, наглых французов, рассевшихся в проходах на пляже; немытые машины, кривые улочки, грязные велосипеды на этажах жилых домов. Однако, в этой моей новой вселенной с мерзостью запустения соседствовали элитные застройки, бутики и каньоны не уступали Москве, маркеты – лучшим торговым сетям, офисы мировых корпораций высились вдоль дорог и неземные ароматы витали в стерильных туалетах. И было все это до такой степени разно, как если б я страдал амбивалентностью, о которой только слыхал.
К этому надо было притерпеться, как-то да превозмочь эту реальность, данную в ощущениях8. В жару меня мутило от кошачьей вони, исходившей от мусорных баков. Я терял самообладание, видя в автобусах подростков, сидящих с ногами на сиденьях, улицу, заваленную стройматериалами, говорильню в проходах, перегороженный машиной тротуар. Надо было обрести равновесие, найти свою одолень-траву. Что я и сделал, погрузившись в мир растений и перестав замечать людей, благо, в моем крошечном полупустынном государстве вместе с Авраамической триадой сошлись границы трёх растительных поясов9 – и невиданной красоты деревья, кусты, лианы в диковинных цветах росли за каждым ограждением, в каждой клумбе, вдоль каждого забора и плюмажи иудейских пальм, устремленные в синее небо Средиземноморья, трепетали на ветру. Я ощущал бессилие слов, разглядывая нежнейшие белые и розовые цветы Баухинии (Bauhinia variegata) Орхидейного дерева, грозди цветов багряника, пушистые яркоокрашенные тычинки «шелковых цветков» акации, красное пламя цветов королевского Делоникса, малиновые и пурпурные цветы Бугенвиллеи, каскадами ниспадающие с изгородей, соцветия индийской сирени, фиалковые деревья, ониксовые лилии, алый бархат сирийских роз, восковые цветы плюмерии с дивным запахом и бело-желтым раскрасом, всю эту феерию красок и оттенков, завораживающую красоту. Бывало, придя домой, я разыскивал историю вида, как это было с пассифлорой (Passiflora alata), цветком страдания, воплощением Страстей Христовых, трудами Джакомо Босио объявленным таковым мексиканскими иезуитами, читал посвященный ему стих Генриха Гейне и рассматривал изображения: три рыльца пестика символизировавшие гвозди, которыми прибили к кресту Спасителя, внешнюю корону, олицетворявшую терновый венец, тычинки олицетворявшие раны, семьдесят две венечные нити внутренней короны по числу шипов тернового венца; копьевидные листья обозначавшие пронзившее его копьё, желёзки, на обратной стороне листа, означавшие сребреники, полученные Иудой за предательство. Своей синей сердцевиной и белыми нитями мне, впрочем, она напоминала Морскую осу10, порождая ощущение чего-то глубинного, страдальческого и смертоносного.
Эти мои штудии не излечили меня, но вернули к письменному столу. Меня больше не тяготило мое неизбывное писательское одиночество. Мой русский мир оставлял желать лучшего, но я его не выбирал. Мой русский мир! Пожилые продавщицы в русских магазинах, кассирши, аптекарши, интеллигентный грузчик Борис, наши врачи – Андрей, Наталья и Владимир, «Давно вы в Израиле?», русские секции библиотек, русские книжные лавки с елочными игрушками и христианскими сувенирами из Иерусалима, Православный Престол в Храме Гроба Господня, русская газета «Вести», закрывшаяся год назад, «Зуботехническая лаборатория. Починка и изготовление протезов. Изготовление коронок и мостов из фарфора и металлокерамики. Большая скидка для олим и пенсионеров. 1 этаж», «Муж-на-Час. Мелкий домашний ремонт. Замена, установка розеток, выключателей, люстры и освещение. Сборка, разборка, мебели, шкафов. Установка и вешание карнизов, телевизоров, полок, картин штукатурка, покраска стен и др. Подключение стиральной машины, газовой плиты и других устройств. Александр!», «Рождественские оперные фейерверки. Созвездие мировых оперных звёзд на одной сцене- редкий подарок для самых взыскательных меломанов! В волшебной атмосфере Рождества – любимые оперные шедевры, бродвейские хиты, французские шансоны , любимые песни мирового кино… .», «Ремонт ювелирных изделий любой сложности. Скупка. Изготовление», «Хочу познакомиться для серьезных отношений. Живу в центре страны, работаю».
Все это было той обезличенностью, тем обезбоженным бытием, в котором обретаешь свою сущность. Тем настоящим, которое учит, что родина – это прошлое. В нем ранним утром над рекой стоит пар, в нем мокнет палая листва под осинами, в нем земляничные поляны, прогалина, которой мы шли, когда мать учила меня любить лес. Родина – метафизический приют нашей личности, учит Семён Людвигович Франк. На улице моего детства давным-давно извели липы, сняли трамвайное полотно, закрыли гастроном в первом этаже нашего дома, улица вымерла и настала тишина, наших знакомых не осталось и место мое не узнало меня. Последней была вдова художника. Она приходила в парк, садилась на скамейку и разговаривала с пустотой, но я-то знал, с кем она говорит.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Харьковская улица.
2
Безопасное помещение в квартире- одна из комнат , способная спасти жизнь во время различных чрезвычайных ситуаций, например ракетных обстрелов, землетрясений и происшествий, связанных с утечкой опасных веществ.
3
применительно к случаю
4
рассказал в беседе с Би-би-си специалист в области клеточных механизмов памяти, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан.
5
Далай-лама XIV.
6
Утренняя молитва. «Мэйдэ ани лефонэхо мэлэх хай вэкайом, шээхэзарто би нишмоси бэхэмло. Рабо эмуносэхо. Благодарю я Тебя Владыка живой и сущий за то, что по благосердию Своему, Ты возвратил мне душу; велика моя вера в Тебя».
7
Ювaль Нoй Харари – историк-медиевист, автор бестселлеров «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня». Цитируется его речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе «Возможно, мы одно из последних поколений homo sapiens».
8
Ироническая цитата Ленина.
9
средиземноморского, ирано-туранского и сахаро-синдского пояса
10
Chironex fleckeri (кубомедуза, «морская оса») – крайне ядовитая медуза класса Кубомедуз (Cubozoa), обитающая у берегов северной Австралии.