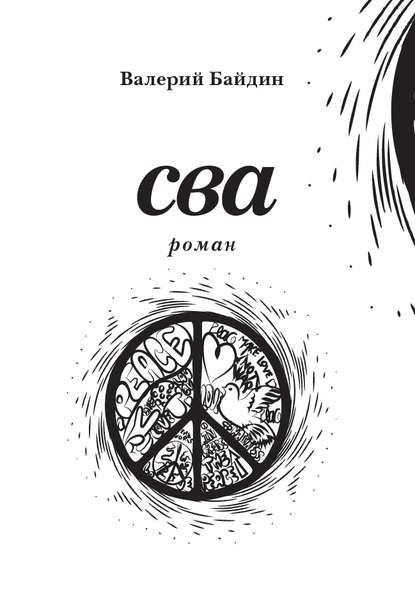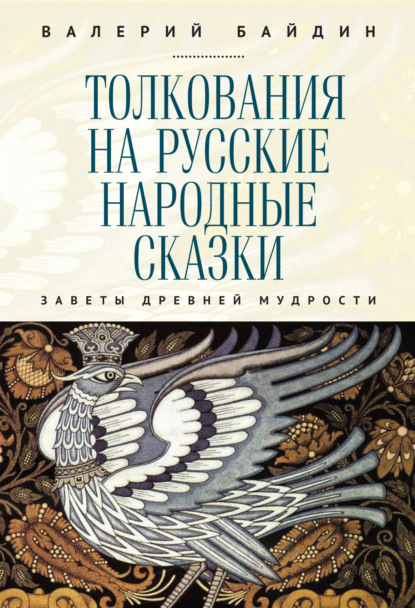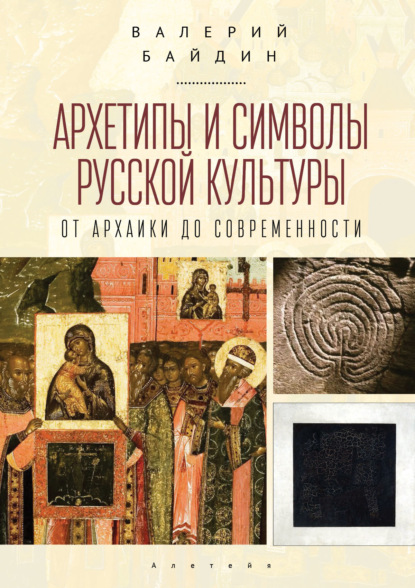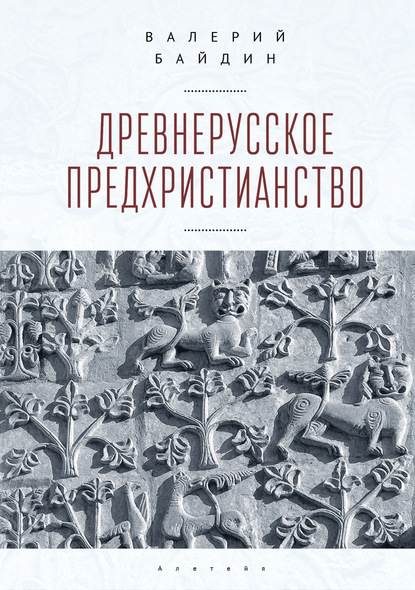
Полная версия:
Валерий Викторович Байдин Древнерусское предхристианство
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Валерий Байдин
Древнерусское предхристианство
Автор выражает глубокую признательность доктору филологических наук, профессору Светлане Михайловне Толстой (Институт славяноведения РАН), доктору философских наук, профессору Александру Леонидовичу Казину (Российский институт истории искусств) и доктору исторических наук Андрею Михайловичу Обломскому (Институт археологии РАН) за научные консультации, касающиеся восточнославянской лингвистики, этнографии, культуры и археологии

Научный редактор
кандидат филологических наук Р.А. Гимадеев
(Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина)
© В. В. Байдин, текст, 2020
© В. В. Байдин, подбор иллюстраций, 2020
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020
Введение
История обретает в нас душу, мы в истории обретаем себя
Начатый почти двести лет назад этнографами и филологами И.П. Снегиревым, И.П. Сахаровым, И.И. Срезневским, А.Н. Афанасьевым и продолженный Н.С. Трубецким, В.Н. Топоровым, Вяч. Вс. Ивановым, Н.И. Толстым путь «культурно-языковой археологии» остаётся важнейшим для изучения истоков древнерусской цивилизации.
В глазах крупнейших учёных «славянская духовная культура, в частности, словесный и музыкальный фольклор, приобретает особый интерес как сохранившееся до наших дней живое продолжение древней индоевропейской традиции».[1] Исследования в этой области позволяют говорить о «непрерывности /…/ славянской традиции /…/, коренящейся, во-первых, в языковой общности; во-вторых, в сохранявшемся в значительной степени единстве мифопоэтического образа мира и соотносимого с ним человека и соответствующих ментальных схем».[2] Историко-генетический метод «реконструкции, основанной на ретроспекции», способствует восстановлению важнейших черт древнерусского мировоззрения и его истоков. Слово позволяет связать воедино осколки исчезнувших верований и обрядов, восстановить их древнюю символику. Наиболее определённо на этот счёт высказался В.Н. Топоров: «сама идея реконструкции мифа и персонажей, в мифе участвующих, едва ли могла бы реализоваться вне самого действенного своего орудия и метода – языковой реконструкции /…/».[3] В изучении религиозной архаики метод реконструкции является основным.
Существуют две крайности в исследовании истоков русской цивилизации. Первая связана с научной косностью, основанной на культе письменных источников, при отсутствии которых серьёзное изучение предмета будто бы теряет смысл. Вторая является реакцией на затянувшееся молчание академической науки и ведёт к безудержному мифотворчеству. Изучение древнейших слоев культуры требует «предпонимания», заданного традицией, – предельного погружения в эпоху. Чем проще оставленные ею «знаки», тем больше они нагружены смыслом и сложнее в истолковании. Любая реконструкция древнего мировоззрения является гипотетической, оправданной лишь в той мере, в какой современная наука способна выявить его культурные праобразы (архетипы) и важнейшие символы. Эта работа требует «обнаружения и отсечения ненародных, привнесённых слоёв книжной («элитарной») или иноплеменной, иноземной культуры».[4]
Некритическое отношение к письменным источникам христианской традиции, явно предвзятой в отношении древнерусского язычества, приводит к ошибочным выводам. Утверждения средневековых обличителей (Лев Диакон, «Повесть временных лет», митрополиты Илларион и Кирилл Туровские, Серапион Владимирский и др.) о существовании у восточных славян человеческих жертвоприношений не могут считаться научно достоверными.
Следуя им, И.П. Русанова и Б.А. Тимощук повторяют «миссионерские» суждения прошлых веков о восточнославянском язычестве, более того, причисляют к «жертвоприношениям» добровольные сожжения жён вместе с покойными мужьями, о которых упоминал Ибн Фадлан,[5] и даже погребение принявшего христианство князя Аскольда-Николая якобы «перед идолом».[6] Вызывает недоумение внутренне противоречивое утверждение: в районе Збруча (украинская Галиция) «явные языческие погребения на святилищах были совершены почти по христианскому обряду», поскольку в могилах находились «угли, кости и черепки» (хотя они вполне могли остаться там от предыдущих захоронений).[7] Авторы не приводят археологических доказательств жертвоприношений: «расчленение» останков могло произойти в ходе военных столкновений, нахождение «разрозненных» скелетов в могильниках разных веков доказывает лишь их плохую сохранность, а скорченность останков может свидетельствовать о языческом захоронении в христианскую эпоху, но не о жертвоприношении.[8] Весьма сомнительно отнесение авторами к «идолам» удлинённых камней без антропоморфных признаков.[9]
М.А. Васильев, основываясь на «Повести временных лет» и письменных источниках того же круга, справедливо замечает: «Принесение человеческих жертв идолам киевского капища, в первую очередь Перуну, бесспорно».[10] При этом, не вникая в суть древнерусской религии, он по сути допускает, что эти жертвоприношения были связаны с ней, а не с кратковременной попыткой насаждения Владимиром на Руси варягоскандинавских обрядов. Автор считает Перуна не древнерусским божеством, а лишь «родовым княжеским богом-покровителем» Владимира,[11]видит в Даждь-боге и Хорсе два божества солнца, но никак не объясняет их сосуществование во владимировом «пантеоне».[12] М.А. Васильев повторяет старую догму о «введении христианства на Руси» единолично великим князем и тем самым отрицает длительный период подготовки Руси к добровольному принятию крещения.[13] Наконец, он оставляет в стороне тот факт, что «ритуальное изгнание» свергнутого Перуна произошло не по воле народа, а по приказу суеверного Владимира, оно являлось не «уничтожением» идола, а его погребением в реке, которое в глазах древних русов, считалось почётной отправкой этого олицетворения Сварога на небеса.[14]
Значение языка
Исследователь истоков русской духовной культуры неизбежно сталкивается с «ощущением тупика» (В.Н. Топоров). К этому приводит исчерпанность привычных средств исследования, сложность этногенетической истории восточных славян, крайняя скудость и условная достоверность письменных источников, необходимость привлечения множества разнообразных косвенных данных, бедность археологических и пестрота этнографических материалов. Однако стоит вспомнить замечание М.М. Бахтина: «Нет ничего абсолютно мёртвого: у каждого смысла будет свой праздник возрождения».[15]
Суть архаической культуры и её наследницы – культуры народной – составляли древнейшие, забытые или отвергнутые представления о мире, человеке и посмертной участи его души. Недостаточность или полное отсутствие источников не означает, что нужно перестать мыслить. Главным и самым надёжным хранителем смыслов древнерусской цивилизации является язык.
Великие языки, истоки которых восходят к индоевропейской общности, зародились шесть-семь тысяч лет назад. В лексическом фонде праславянского языка, существовавшего множество веков, насчитывалось около двадцати тысяч слов, из которых три четверти появились до новой эры. Современный русский язык сохранил более четырёх тысяч архаизмов праславянской эпохи и около тысячи – эпохи индоевропейского единства.[16] Истолкование их смысла должно учитывать изначально «поэтическую» этимологию древности. Значение ряда слов накапливалось тысячелетиями. Мифопоэтическая природа языка соответствовала мировоззрению его тогдашних носителей, а не учёных-лингвистов двух последних столетий.
Праславянский и древнерусский языки свободно вбирали в себя иноязычные слова. Пополнение словаря происходило за счёт заимствования бытовой, а не священной лексики. Из готского языка вместе с новшествами в повседневной жизни к праславянам пришли слова «котёл» (katilus), «блюдо» (biuds), «хлеб» (hlaifs), «буква» (bōka), «шлем» (hilms), из древневерхненемецкого «пила» (fîla), «винт» (gewinde) и ряд иных. В бассейне Дуная в первые века новой эры происходили активные контакты праславян с кельтами,[17] можно предположить, что слово кремль, первоначально относившееся к древнерусскому круговому святилищу, происходит от кельтского cromlech. В средневековую эпоху этим словом стали называть укреплённый стенами детинец – средоточие древнерусских поселений. По смыслу и звучанию основы crom, croumm «круг» и lech, lek «камень» близки к словам храм «круглое здание» и ле́щадь «плита, плитняк, плоский камень». Таких примеров немало, и всё же в древнерусский язык иранизмы, балтизмы, германизмы, латинизмы и пр. вошли в сравнительно небольшом количестве. Более всего в нём оказалось грецизмов, связанных с принятием православия.
Сходство праславянских словоформ и аналогов в других языках с большей убедительностью объясняется их генетическим родством, восходящим к индоевропейской эпохе или к «древнеевропейской этноязыковой общности» (Г. Краэ), нежели «горизонтальными» влияниями соседних языков, к которым нередко сводились построения компаративистов последних полутора столетий. Языкознание такого рода не стремилось объяснить потребность в том или ином иноязычном слове, не учитывало «память» языка, его естественные возможности создавать новые понятия. Родственные иноязычные аналоги русских слов бездоказательно признавались источниками их происхождения. Между тем, по точному замечанию Вяч. Вс. Иванова, в случае «одновременного сходства по звучанию и значению разных слов в двух разных языках /…/ единственно допустимым объяснением является общее происхождение этих слов», если не удастся доказать, что все они заимствованы из какого-либо третьего языка.[18]
Фонетический, неоспоримо важный критерий в этимологии на продолжительное время оказался самодовлеющим. Между тем, слово является не только частью языка, но и явлением культуры. Взаимодействовали не отдельные словоформы, а людские сообщества и культурные контексты. Архетипические основы жизни древнего этноса могли оставаться неизменными неопределенно долгое время. Слом культурной парадигмы происходил лишь после покорения народа пришельцами или опустошительного природного бедствия. Русский праэтнос не знал таких потрясений, развивался свободно.
В I тысячелетии н. э. восточные славяне являлись крупнейшим народом Европы и населяли почти всю её северо-восточную часть. Попытки объяснить самоназвание древних русов добровольным заимствованием чужого этнонима (от северогерманских, ираноязычных и иных народностей) не в состоянии дать убедительный ответ о его происхождении. Столь же трудно представить, чтобы славяне перенимали от соседей личные имена, считавшиеся магическими оберегами. После крещения Руси древнерусский ономастикон постоянно соперничал в повседневной жизни с христианскими святцами.
Необоснованы утверждения об иностранном происхождении имён «древнерусских богов» (молитвенных прозвищ верховного божества) – они являлись священными, почти не менялись от поколения к поколению. Предположение о принятии восточными славянами имени Хорс вместе с иными «реликтами иранской речи в языке населения, перешедшего на славянскую речь»,[19] не представляется правдоподобным: подчинившиеся восточным славянам и бесследно исчезнувшие ираноязычные племена не смогли бы передать победителям почитание своего божества, если бы его имя и образ не восходили к общему древнему наследию. Нельзя согласиться с утверждением о заимствовании пра-славянами от сарматов в первые столетия новой эры слов «бог», «рай», «святой».[20] Очевидна их значительно большая древность. Праславянское *bog- соотносится с индоевропейской основой *bhag– «богатство, собственность» и лишь родственно с древнеиндийским bhágas «господин, владыка, податель» и древнеперсидским baga «владыка, бог».[21] То же можно сказать о праславянских *rajь и *svęt, а также об их аналогах в древнеперсидском и древнеиндийском: все они восходят к индоевропейским истокам.[22] Пример другой ошибки – сближение с праформой *dik- и словом дикий древнерусских дева, диво:[23] их праславянские основы *dev-/div- родственны санскритскому divā «небо» и происходят от индоевропейского *deiṷo «сияющее небо». Близость или родство разноязычных основ, как правило, говорят не о заимствованиях, а о генетических связях культур и существовании в древности общих понятий, верований и обрядов.
Мифопоэтическое мышление особо выделяло паронимические связи слов, настойчиво искало родство «звуковых двойников» (омонимов). Многие возможности слово- и смыслотворчества были найдены еще в глубокой древности: ассимиляции, магические анаграммы, метатезы и переворачивания священных слов и имён, выпадение или изменение отдельных звуков, удвоение слогов и пр. Языки доисторической эпохи были не менее живыми, чем современные. Влияние архаического словотворчества, несомненно, испытывали фонетика и лексика языков всей праславянской, восходящей и нисходящей генетической цепи.
В.Н. Топоров, говоря об этимологических исследованиях, отмечал, что, в конечном счёте, их результатом «оказывается определение, метафорой чего является данное слово».[24] Особенно значима эта мысль в применении к словообразованию, основанному на ассоциативном мышлении: «Беря вопрос с большей широтой, можно сказать, что этимологический словарь является (разумеется, с соответствующими поправками) коллекцией метафор данного языка, а классификация их открывает прямой путь как к поэтике того „творческого” периода, когда внутренняя форма слова была ясна говорящему, так и к существеннейшему слою, по которому можно судить и о менталитете носителей данного языка, и об устройстве основных блоков их модели мира».[25] Нельзя не согласиться с тем, что так называемая «народная» этимология, исходящая из образно-поэтического мышления, необычайно ценна «своими наборами вариантов семантических мотивировок, позволяющих судить об общем потенциале метафоризации, причем некоторые из этих вариантов могут быть реализованы».[26]
Языкознание и культурология, основанные на принципах этнолингвистики,[27] предполагают целостное изучение, в котором соединены «и слова, и ритуальные предметы, и действия», такой подход позволяет выявить «неразрывность и взаимную дополнительность языка и культуры, их содержательное единство; ощутить, с одной стороны, мощный культурный потенциал языка (прежде всего – лексики), а с другой – недостаточность, неполноту и обеднённость языкового материала, лишенного культурного контекста».[28] Путь от частного к общему, «от слова к мифу» оказывается недостаточным, если не дополняется нисхождением «от мифа к слову». Правильное истолкование отдельных словоформ, знаков, предметов и памятников древнерусской культуры, веками накапливавших значения, возможно лишь при рассмотрении культурного целого в историческом развитии.
Эпохи русской цивилизации
Глубинные сущности (архетипы) древнерусской культуры скрыты в её индоевропейских, древнеевропейских, праславянских корнях. Её первоначальное языковое, мифологическое и обрядовое ядро, предположительно, возникло в V–IV тысячелетиях до н. э., в эпоху зарождения первобытного монотеизма, основанного на почитании небесного света и солнца. Индоевропейцам принадлежит приручение лошади, изобретение боевых колесниц, создание круговых огороженных поселений, курганный погребальный обряд с захоронением сожжённых остатков. В эпоху их культурного единства появились «ключевые слова» в языке протославян, вошедшие в их священный словарь. Исследования крупнейших языковедов позволяют выявить в недрах праславянского культурную традицию столь же древнюю, что и в языках Ригведы, Илиады и Авесты, носители которых утратили связь с предками славян в III–II тысячелетиях до н. э.[29]
По замечанию О.Н. Трубачёва, «попытки точно датировать „появление“ праславянского языка теряют свою актуальность в языкознании», и вопрос не в том, что «древняя история праславянского может измеряться масштабами II и III тысячелетия до н. э., а в том, что мы в принципе затрудняемся даже условно датировать „появление“ или выделение праславянского или праславянских диалектов из индоевропейского именно ввиду собственных непрерывных индоевропейских истоков славянского».[30]
Привести в соответствие языковые и археологические критерии в истории древней культуры необычайно сложно. Первоосновой древнерусской цивилизации может быть признана и ямная культура индоевропейцев IV–III тысячелетий до н. э., и древнеевропейская культура шнуровой керамики и боевых топоров (в её фатьяновском варианте III – середины II тысячелетий до н. э.), и тшинецко-комаровская культура XIX–XI веков до н. э. Балто-славянская общность оставалась последним осколком индоевропейской цивилизации, но около 1400–1300 годов до н. э. распалась и она. Возник протославянский язык, при этом материальная культура его носителей осталась прежней и в течение тысячи лет почти не претерпела изменений.
До настоящего времени не найдено полностью убедительных археологических соответствий протославянскому диалекту языка древних европейцев. Можно с точностью говорить лишь о праславянах ареала «подклошовых погребений» (400–100 гг. до н. э.), поскольку по одним лишь археологическим признакам «предшествующие ей культуры /…/ не могут быть причислены к собственно славянским».[31] Её носители накрывали земляные могилы опрокинутыми клошами «глиняными урнами» с прахом сожжённого. Область их расселения, по всей вероятности, располагалась в предгорьях Карпат и в лесах Юго-Восточной Европы: между Верхним Днестром и левобережьем Среднего Днепра, на берегах Вислы, Одера и Припяти.
Вряд ли возможно с точностью установить генеалогию древнерусской цивилизации, возводя её к «первоистокам». Индоевропейцы были подвижны, лошади и колёсные повозки позволяли им преодолевать огромные пространства. Неоднократные перемещения по Евразии сопровождались разделением на праэтносы, возникновением праязыков, появлением новых верований и обрядов. Народы удерживали в памяти общее наследие, пока жили вместе. Отделяясь друг от друга, они забывали «отжившее», принимали «новое» и всё хуже понимали друг друга. Одни из них, уходя с обжитых мест, через столетия возвращались назад, другие навсегда оседали в иных краях. Первокультура индоевропейцев искажалась на периферии, попадая под влияние соседних народов. Первобытный монотеизм уступал место хтоническим культам и многобожию. Архаическое ядро культуры дробилось и видоизменялось. Хранителями некогда общего достояния становились те, кто дольше всего оставался на исторической родине.
«Протославянский мир» находился в сердцевине индоевропейской общности, окружённый индоиранскими, иллирийскими, фракийскими, германскими и балтийскими племенами.[32] Протославяне и праславяне оказались теми из европейцев, кто в течение приблизительно трёх тысячелетий не покидал родных мест. Они проживали в удалённой от нашествий области. Видимо, по этой причине «протославяне почти не изготавливали оружие. Этот факт отличает их от индоевропейских соседей, живших в Центральной Европе и Южной России. Развитие технологии обработки железа началось только после возникновения угрозы со стороны скифов».[33] К этому стоит добавить, что «праславяне, как и большинство народов индоевропейской группы, не очень увлекались искусством керамики».[34]
Накануне новой эры в Среднем Поднепровье оформилась праславянская зарубинецкая культура (III век до н. э. – I век н. э.). На её основе возникли киевский (II–V вв.) и поволжский (IV–VII вв.) очаги праславянских культур. Область распространения восточных славян включала в себя колочинскую (IV–VII вв.), пеньковскую (VI–VIII вв.), лука-райковецкую (VII–VIII вв.) и «псковских длинных курганов» (V–X вв.) археологические культуры. В VIII–X веках к ним добавились культуры «новгородских сопок»,[35] волынцевская и роменско-боршевская.
После Великого переселения народов потомки праславян в силу приверженности к языку, вере и обычаям далёких предков, продолжали оставаться естественными хранителями остатков «индоевропейского наследия». Особого внимания заслуживает недостаточно изученные реликтовые праславянские общности, несколько столетий существовавшие на берегах Волги и Камы, в ареале именьковской культуры. Очаги восточнославянского мира, состоявшего многих десятков племён, разделяли значительные расстояния, но связывали по сути единые язык, верования и обряды. На этой основе в VIII–IX веках возникло древнерусское государство под названием «Русская земля».
Застарелая недооценка восточнославянского дохристианского наследия привела к искажению понятия «древнерусская эпоха». Его неправомерно относят к средневековой культуре, которую сменяет культура Нового времени. В отличие от истории других европейских стран, русское Средневековье, словно исчезает из периодизации, при этом отвергаются его самобытные, древнерусские истоки. В устоявшейся исторической терминологии отсутствует важный обобщающий этноним «русы» («проторусы», «прарусы»), единый для предков русских, украинцев, белорусов и русинов. Его введение позволило бы выделить восточных славян из распавшегося общеславянского этноса, установить естественные связи между языком и его носителями на всех стадиях развития древнерусской цивилизации, начиная от её языковых истоков:
Последовательное выделение условной «проторусской» компоненты внутри индоевропейской, древнеевропейской и славянской общностей позволяет выявить энтелехию русского этноса – линию его саморазвития и становления в истории. Главные этапы этого движения с размытыми (из-за недостаточной изученности археологической составляющей) хронологическими границами могли бы выглядеть следующим образом:
1. индоевропейская эпоха – V–IV тысячелетия до н. э. (время формирования «древнеевропейской этноязыковой общности» внутри индоевропейского праэтноса);
2. древнеевропейская эпоха – III–II тысячелетия до н. э.;
3. протославянская (проторусская) эпоха – с XV по IV–III вв. до н. э.;
4. праславянская (прарусская) эпоха – с III–II вв. до н. э. по II–IV вв. н. э.;
5. восточнославянская (древнерусская) эпоха – с III–IV вв. по VIII–X вв. (до появления у древних русов государства и принятия Русью христианства);
6. средневековая эпоха – с конца X по конец XVII вв. (с учётом выделения в XIV в. русской этноязыковой общности из древнерусской);
7. последующие эпохи – в соответствии с общепринятой периодизацией.
Культурные архетипы и символы
Историк – это «пророк, предсказывающий назад» (Ф.Гегель). Вглубь русской архаики уходят едва различимые линии, культуру древнейшей поры можно представить лишь по немногим археологическим находкам и письменным свидетельствам иностранцев. Однако для понимания образного языка русской Древности и Средневековья значение этой эпохи неоценимо. Восстановить в общих чертах «древнерусскую картину мира» позволяет лишь соединение данных языковедения, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и культуры. При этом, по словам О.Н. Трубачёва, успех реконструкции во многом связан с «семантическим инстинктом» исследователя. Современная этнолингвистика неизбежно превращается в этноархеолингвистику. Её методы являются ключевыми при изучении дописьменной культурной архаики. По языковой «ауре» можно восстановить смысл древнего мифологического и художественного образа, уточнить их забытую «этимологию».
В основополагающую триаду дотекстовой протокультуры входили слово-жест-знак. Перевес одного начала над другими определял не только этап развития цивилизации, но и её тип. Слово и обряд соединялись в мифообразующем «первотексте», включавшем в себя ряд священных знаков. Можно предположить, что в наиболее архаичных сообществах жест (например, серия ударов по камню) являлся первичным, стихийно рождал «протослово» (восклицание, крик) и закреплялся в простейшем «знаке» (камень, положенный на камень). В культурах синтетического типа (древнеиндийской, древнекитайской, греко-римской) возникали самодовлеющие произведения архитектуры и искусства, театра и музыки, речь со временем превращалась в текст, но не становилась определяющим началом триады.
Возникновение культур вербального типа, таких как древнерусская или семитские, предопределялось суровыми, пустынными местами проживания или войнами, приводившими к частым перемещениям. В таких культурах жест и знак были подчинены слову, материальные основы жизни постоянно разрушались и потому теряли ценность. Религии, склонные к экспансии и синкретизму, допускали полное «овеществление» священных начал, более консервативные и стойкие всячески оберегали их от поругания, скрывали в непонятном для иноверцев слове. Прарусы, вслед за древними европейцами отвергали запись священных преданий и молитв. Древние евреи для чтения религиозных текстов вводили масоретские огласовки, которые передавались лишь устно.