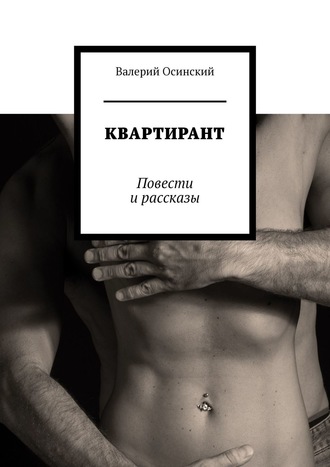
Валерий Осинский
КВАРТИРАНТ. Повести и рассказы
19
Первый месяц дома помню плохо. Слонялся как пьяный по городским конторам трестов и управлений: искал работу. Подальше от людей. Люди раздражали. Заметив знакомого, спешил на другую сторону улицы или сворачивал в переулок. Зазевавшись, выслушивал: «О! Как Москва?» – мне мерещилась ехидца в голосе, и я, промямлив что-нибудь, убегал. Мать вздыхала. Ее друг, начальник автоколонны, по-родственному звал водителем в таксопарк. Все это смешалось в унылый калейдоскоп.
Дольше всего я продержался на должности грузчика пищевой базы. Три недели. Здесь меня приняли за инкогнито проверяющего. Когда недоразумение выяснилось, соратники склоняли «дембеля» стимулировать труд водкой. Потом отвязались. Раза два-три в день под ревностным надзором надменной кладовщицы я закидывал дюжину ящиков с деликатесами – забытое ныне слово «дефицит»! – в горкомовские автобусы, или ведомственные каблуки ранжированных организаций. И вся работа.
Среди ящиков и коробок склада, в армейском бушлате без погон и в кирзе (переоделся на второй день, чтоб не нервировать коллег) я чувствовал себя сносно. В душе расстилалась Сахара. Когда болит, надо найти удобную позу и не шевелиться. Неосторожная мысль – «и она бы так подумала», случайное слово – «а она говорит так», знакомый жест – «нет, она иначе поправляет одежду», даже коробок спичек – «она зажигает огонь не косым ударом, а двумя пальцами продольно, словно держит пинцет», все причиняло боль. Душа гноилась. От моих нервов словно отделили плоть, и эти анатомические узелки и разветвления поместили в вакуум.
Днем я еще терпел: мелкие хлопоты отвлекали от воспоминаний. А вот ночью! Тоска безнадежно больного и пустота одиночества. И этот кошмар гложет и гложет, и некуда деться от него.
Сначала в памяти ничего определенного. Потом разрозненные наброски перемешиваются в мазню. От этой вакханалии цвета сатанеешь, рвешь зубами наволочку, и затихаешь, чтобы не всполошить мать. И тут нагромождение цвета выстраивается в композицию, эскиз, которому раньше не придавал значения, становится отчетлив, и причиняет новую боль.
Помню, Елена Николаевна гладила мою рубашку. Недавний армеец, я все делал сам и стыдился сторонней помощи. Я отнял у женщины утюг. Она виновато улыбнулась, постояла, и, кутаясь в шаль, вышла. Я обидел ее.
Или, вот еще. Я курил на балконе в сильном раздражении. Она облокотилась о перила рядом. Весело заглянула в глаза. Предложила погулять в парке: старалась растормошить мое не настроение. «Опять скучать среди аллей вашей молодости!» – нагрубил я. Она с минуту рассматривала августовский вечер, и тихонько скрылась в комнате.
Все заканчивается. Должно же закончиться и это!
Я порывался написать, позвонить…
Но что я мог добавить к своей любви? Вложить в конверт душу? Вместо телефонных проводов протянуть свои нервы? Душа и так осталась с ней. А о любви не молят.
Помниться, в те же дни, кажется, в поезде я познакомился с девушкой Леной. Но кроме святого для меня имени, больше ничего в ней не заинтересовало меня. Даже бюст, один способный свести с ума ценителя женских форм. Наверное, девушку во мне привлекла романтичная меланхолия. В тамбуре перед расставанием она жаркими губами коснулась моего сухого рта.
Я добросовестно употреблял новые встречи, как лекарство против недуга. Когда мать была на работе – о, эти коммунальные половые связи, так знакомые моему поколению! о, этот квартирный вопрос! – я привел новую пассию домой. А в ответственный момент обессиленный сел в постели, не испытывая ни стыда, ни разочарования, а лишь брезгливость к куску белого, теплого мяса под простыней, и свирепую тоску.
Девушка оделась быстрее духов моего взвода по тревоге, с яростью крикнула «дурак!» и навсегда исчезла из моей жизни.
Позже я проводил повторные эксперименты. Добросовестно наваливался на девиц, имитировал страсть, и призывал на помощь память о Елене Николаевне. Мои подружки так и остались в счастливом заблуждении. Я прикасался не к ним. А, зажмурившись, оставался с женщиной, которой был безнадежно болен, и доставлял удовольствие не им, а ей, чутко реагируя на ее судороги и стоны.
Если я неосторожно открывал глаза и видел замлевшую размалеванную рожу, то вынимал из чужой мокрой пещеры вялый труп.
Оказывается, я однолюб. Это открытие не принесло мне облегчения.
20
Случалось, я уединялся в лесу. Среди запахов увядающего разнотравья, щебета птиц, жужжания и шуршания насекомых, их приготовлений к близкой зиме, среди примитивной и нешуточной борьбы за существование, чуждой сомнений и расстройств, я отдыхал. Ощущал себя президентом, если не земного шара, то вот этой поляны. Человек таскает за собой вчерашний день, ищет хотя бы глазок в дверь – завтрашнего. А жизнь признает лишь настоящее. Скрипучая телега с хламом ненужных воспоминаний не стоит заблудившегося на щеке муравья, стеклянной паутинки на подбородке…
Морозное утро. Ледяные росписи на окнах…
Лицо в отражении туалетного зеркала. Именно в тот день, вглядываясь в зрачки, словно измученной, больной собаки, я понял, болезнь отступила. Универсальное снадобье от сердечной хвори – время – затянуло ссадины. Меня снова интересовала действительность.
Я по-прежнему хотел все и сразу. Но теперь ради этого готов был потрудиться. Неудачная попытка отыскать в себе нечто человеческое, убеждал я себя, обострила мои звериные инстинкты. Все лучшее в себе я посадил на голодный паек в самый холодный чулан памяти.
Мой старший школьный товарищ срочно сплавлял два вагона сливы в спирту и искал посредников. Я вспомнил о Ведерникове, ухватился за предложение, на ходу изучая азбуку предпринимательства. И через три недели в мутной воде тогдашней державной неразберихи выловил первую золотую рыбку. Что? Откуда? Куда? Прошел я эту школу. Мне понравилось вершить свою судьбу своим умом. Знаний не хватало. Но это было время объединений в стаи.
Заматерев, я дивился, сколько раз балансировал над пропастью полного разорения, и не летел туда, потому, что толком не знал, где глубже. Дуракам везет! В конце концов, мне шла на пользу всякая наука!
Мою не дюжую работоспособность и нахальство тех месяцев питало желание доказать Елене Николаевне, ее знакомым, что я обойдусь без них, и этот мегаполис, без единой слезинки, едва не раздавивший меня, еще признает меня своим. Себя же я пытался обмануть, что хочу забыть Нелю, Раевских, свои глупые мечты о столице, о славном будущем, о детских фантазиях и блажи.
Я прекрасно устроился дома. Денег мне хватало, чтобы на выходные при желании столоваться в московских ресторанах, и пускать пыль в глаза субъектам типа меня, тупо делающим бабки. Некоторым везет на хороших людей. К дряни липнет дрянь. В своем собственном представлении, тертый калач, я мысленно костерил столицу: город трусливых, мелких гадиков, толкавшихся у корыта, где не хватало на весь десяток миллионов рыл, и где хитрить учатся быстрее, чем уважать людей…
Но все эти мстительные мысли были мыслями наоборот. Прошлое разрасталось во мне, как паразит, чтобы в подходящую минуту боль предательски вывернула меня наизнанку. Меня уже подстерегало будущее.
21
В конце февраля я отправился в Москву по неотложному делу. Дело то делом, но в столице я надеялся узнать что-нибудь о Курушиной.
В стране маячил призрак компьютерного бума. И теперь требовалось проворство, чтобы сорвать неправдоподобные барыши, и разогнаться по колее, робко накатанной другими.
В уютной конторе Ведерникова мы обсудили рутину сделки и перекуривали в короткой паузе перед расставанием. Роман Эдуардович утонул в роскошном, обитом кожей кресле. Он то и дело поправлял манжеты сорочки под рукавами добротного, шитого на заказ костюма, и его маслянисто-черные глазки довольно поблескивали. Ведерников относился ко мне по-отечески. Но, лишенный сантиментов, думаю, первым бы подтолкнул меня, кабы я споткнулся. Мы не лицемерили, и потому испытывали обоюдную симпатию.
– Как поживает Елена Николаевна? – спросил я, как мог спокойнее, и почувствовал, что краснею.
Ведерников изумленно приподнял густые брови и сморщил личико, еще больше ставшее похожим на мордочку мартышки.
– Я думал ты поддерживаешь с ней отношения! – ответил он баском, всегда казавшимся мне забавным при его тщедушной конституции. – Она уже месяц болеет…
Во рту у меня пересохло.
– Что с ней?
– Говорят, пневмония после гриппа, и осложнения на почки. В нашем возрасте это опасно. Вам то молодым это трудно представить…
Я сломал в пепельнице окурок и выбрался из проклятого кресла: рука дважды сорвалась с подлокотника. Я припомнил соседку через дом, женщину лет пятидесяти: за три месяца соседка сгорела от воспаления легких, как соломинка.
Спустя двадцать минут, забыв в такси шарф, я семенил, бежал, прыгал вверх по ступенькам подъезда Елены Николаевны.
Дверь отворила сиделка или подруга – я видел ее впервые. Выдохнул: «Где?» Оттеснил даму – у нее было вытянутое, некрасивое лицо, с белыми волосками на подбородке, как вялый, проросший бородавками, картофель – и вломился в комнату.
Елена Николаевна спала, отвернувшись к стене, завешанной мохнатым ковром, бледная, почти прозрачная при скудном свете из-за занавески. Ее худые кулачки с зеленоватыми жилками под мраморной кожей покоились поверх одеяла, как у ребенка. Пышные волосы, примятые подушкой, темнели на белой наволочке. Кружевная рубашка с цветочками обнажала острое плечо и ключицу. Моя Елена Николаевна! Я опустился на стул рядом, как был в пальто нараспашку, уткнулся в ладони и замер. Сиделка недовольно кашлянула: с моих полусапог капал талый снег.
– Выйдите, пожалуйста. Она только заснула! – различил я над ухом сдавленный клекот, и с неудовольствием покосился на ведьму за спиной.
Мы вышли на кухню. «Ведьмой» оказалась подруга Курушиной, некая Волкова. Она подменяла Лору Дыбову.
– А почему сиделку не наняли?
– Не хочет! Теперь, Леночке лучше. А неделю назад мы все перепугались!
История болезни оказалась до ужаса нелепа. «Болела на ногах. Через неделю слегла с высокой температурой. Забрали в больницу, потому что некому ухаживать. Она ушла оттуда. Грипп дал осложнения на почки».
Я слушал и представлял больную в пустой квартире…
– Почему она не осталась в больнице?
– Вот и мы удивляемся. Ее же не в эти, простите, вшивники привезли. Саша распорядился в управление! А вы, извините, родственник?
– Д-да… Двоюродный племянник.
Женщина, прищурившись, с лукавинкой в опытном глазу, разглядывала меня сквозь сизое облачко сигаретного дыма. На ней был костюм канареечного цвета, на жилистой шее нитка жемчуга в три витка.
– Вас не Артур зовут? – иронично осклабилась дама.
– Артур.
– Очень приятно…
– Уже?
Дамочка прыснула. Затем показала, где лекарства, объяснила, когда принимать, и кому звонить, и, наконец, ретировалась.
Это было мое второе и последнее возвращение.
22
Елена Николаевна выздоравливала не спеша. Можно сказать, со вкусом. Она была так слаба, что я провожал ее в туалет или к умывальнику. Я прошел (надеюсь, успешно) стажировку повара, сиделки и домработника. По телефону я предупредил мать, что задержусь в Москве.
Товарки по инерции опекали Елену Николаевну. Но моя ревнивая недоброжелательность скоро урядила их визиты. Ни для кого не было секретом, что я именно тот субчик, и, вероятно, начну снова домогаться Лены, воспользовавшись ее слабостью. Как позже выяснилось, Дыбов пропадал где-то за границей в длительной командировке. Иначе б мне несдобровать.
Почти месяц пространство ограничивалось для меня кубометрами квартиры и длинной обледеневшей тропинки к магазину и аптеке, изученной до мелких трещин в асфальте. Ведерников следил за торговыми операциями и испуганно отмахивался от меня, стоило мне появиться в конторе: мол, хлопочи о больной, а уж мы как-нибудь. Ни без семитского расчета.
Когда Елена Николаевна впервые вышла на балкон в шубе, шапке, рукавицах на собачьем меху, обутая в старые бурки, и укутанная сверху одеялом, я ощущал себя так, как вероятно ощущает себя родитель, после тяжелой болезни ребенка. Дыхание весны, первая капель: все это, конечно, было. Но были еще и радостные глаза моей Елены Николаевны. В них разгоралась жизнь. Я поцеловал эти родные глаза. Она завертела по сторонам головой в шутливом испуге и проговорила:
– Тут же все видно!
Тогда я расцеловал ее холодные щеки.
Сразу после весеннего праздника Розы Люксембург вторично на моей памяти больную навестил наш общий друг Александр Ефимович Дыбов. В красный день, не желая портить настроения женщинам, грозный Цербер их общего царства теней, лишь ненавистно презрел меня. Самостоятельный же визит отца какой-то там отрасли производства был так же агрессивен, как вероятно, его муштра подчиненных. (От души им сочувствую!) Злой гений скандала, он и не подозревал об услуге, оказанной счастливым затворникам.
Елена Николаевна читала в постели. Сашок, походя, справился у нее о здоровье, кисло улыбнулся и, прикрыв двери, подбородком указал мне на кухню. За минувшие дни он, очевидно, достаточно вскипятил мозги на мой счет и в рабочее время (было начало четвертого) решил изобличить тунеядца.
Темно-синий двубортный костюм, солидный, как генеральский мундир, он носил ладно. На белой шелковой сорочке серел галстук, прямой и неброский, как воображение его обладателя. При наших, почти равных габаритах у меня было маленькое психологическое преимущество перед Александром Ефимовичем: домашние тапочки по размеру. А солидный муж, накаченный до сивой шевелюры злостью, натаптывал свои голубенькие хлопчатобумажные носочки на прохладном полу. Я хамовато и независимо опустил руки в карманы брюк, не менее добротных, чем костюм гостя.
– Послушай! – зарычал Дыбов. – У тебя есть совесть? Оставь несчастную женщину в покое. Она больна. Не будь подлецом! Ты же показал осенью, что способен на благоразумие и человеческий поступок…
– У меня нет совести! – честно признался я. Мы мгновение гвоздили друг друга взглядами, и мне показалось, сейчас две огромные кувалды кулаков под прицельной наводкой налитых ненавистью глаз начнут дробить череп проходимца в тщетном поиске там чего-нибудь, кроме кости и порока. Однако, воспитанный Дыбов отчаянным усилием воли – скорее всего он рассчитал, что при падении я наделаю много шума – заставил себя отойти к окну и видами весенней капели остудить свой гнев. Следующая реплика старого дурака настолько обескуражила меня, что кулаки в карманах сами разжались. Старый Скалозуб, номенклатурный барин ляпнул дичь из благих побуждений. И я простил его.
– Сколько ты хочешь… чтобы навсегда убраться отсюда? – предложил он.
– Ровно столько, чтобы я не видел тебя в доме моей жены!
Дыбов резко обернулся, очевидно, решив, что мы говорим о разном. Его брови все еще были сдвинуты, лоб наморщен, но губы обмякли в параличе изумления. Волны его эмоций двигались откуда-то снизу. Его взгляд промахнулся в миллиметре от моего плеча за спину. Я проследил траекторию. Лена слушала перебранку, укутавшись в накинутый на плечи халат.
– Саша, если ты приехал оскорблять Артура и меня, то тебе лучше уйти! – негромко проговорила она, и ступила к сигаретам на холодильнике.
Мы с Дыбовым проводили ее радугой взглядов. Он, ошеломленный, ждал немедленных объяснений. Я следил за ней с любовью и озабоченностью сиделки, самовластно решавшей, что можно и нет больной.
– Тебе… вам нельзя курить!
Лена по привычке подчинилась и села на стул.
– Лена, о чем он? Алексей ведь рассказывал, что Оксана…
– Артур говорит обо мне…
Дыбов таращился на Лену и с трудом ворочал в мозгах неподъемные глыбы мыслей.
– Ты хочешь сказать?…
– Да, именно это я хочу сказать! – раздражаясь, оборвала женщина.
Бедняга Дыбов, он еще ждал опровержений, оговорок, объяснений. Но никто и не думал ему собить. И в плотном тумане недоумения Александра Ефимовича вдруг блеснула спасительная, все объясняющая пошлость.
– Да, ты просто выжила из ума, Лена! Чаще смотрись в зеркало! – прорычал он, привычно набычился, и свирепо поглядел на меня. Что ж, ему не возражали! Тогда он, натаптывая носочки, ринулся вон. Дверь хлопнула…
Казалось, за стариной Дыбовым захлопнулся вход в прошлую жизнь: вокруг нас зазвенела немая тишина. Я впервые по настоящему осознал себя взрослым.
Лена пересела на табурет у окна, обессиленная почти легла на колено и подогнутые локти, и закурила. Взгляд ее был ясен и спокоен. Она лишь разок едва заметно нахмурилась, вероятно, думая обо мне, так же, как я думал о ней: мысли влюбленных часто совпадают.
– Обмоем? – пошутил я.
– Как водится…
23
Передо мной в альбоме, раскормленном старыми и свежими фотографиями, цветной глянцевый снимок, яркое пятно минувшего среди нынешних пустяков. Четверо на ступеньках районного «Дома торжеств». Николай Иванович Кузнецов в парадном генеральском мундире, отблески золотой молодости на звездных погонах в красной окантовке прожитого, его жена Наталья Олеговна с серебряным ридикюлем на цепочке через запястье, в волосах строчки времени в тон; и мы с Леной. Держим фужеры с шампанским. Пустая бутылка нанизана горлышком на мизинец свидетеля. Лена шутливо тянет ко мне губы трубочкой. Я пальцем из-под фужера показываю, что нас снимают. Свидетели с радостным изумлением смотрят на мою жену.
Неужели был тот прохладный май, месяцы надежд и открытий!
…Дня через три Лена первой обратила внимание на замолчавший телефон. Никто не звонил. Мир затаился под окнами и за дверью, и настороженно прислушивался: что дальше?
Меня всегда поражала мобильность вербальной связи маленьких городов, либо некого замкнутого сообщества, рассеянного по мегаполису. Пожалуй, лишь Ведерников благосклонно выслушал мое сообщение о свадьбе и приглашение на скромное торжество. Его физиономия добродушно расплылась, а складки и морщинки сбежались к носу. Партнер перегнулся через стол и протянул мне руку.
– Поздравляю! Ай да, Лена! Она достойна счастья. Держитесь! – и дружески подмигнул.
Недели через две позвонил дядя и нарочито вежливо попросил подъехать к ним вечером на телефонные переговоры с матерью.
– Пусть мама перезвонит нам, – сказал я.
– Ты же знаешь, она этого не сделает! – торжественно ответил родственник.
Опущу сетования матери, ее всхлипываниями в трубку под выжидательное подслушивание углов дядиной квартиры.
Приходили подруги Лены, якобы навестить больную, и зирк-зирк – расстреливали меня взглядами. Они даже не скрывали разочарования: «Двадцать восемь лет! Да она в своем уме?» Лена предприняла какие-то оборонительные действия, и визиты прекратились.
Мы, словно, присматривались друг к дружке в новом качестве, прикидывали: не произошла ли ошибка? Нет, не произошла! Каждый день открывал нам маленькие тайны.
В этом пункте повествования я намерен пренебречь вето, наложенным щепетильной русской словесностью на интимную жизнь. Нетерпеливых прошу обождать в нескольких абзацах ниже.
Так вот, до моего появления в доме, Лена после душа летом прогуливалась по квартире совершенно нагая: через балконную дверь принимала воздушно-сквозняковые ванны. Однажды я застал ее за этим: она не успела убежать из кухни в комнату и поплатилась. Мы принялись резвиться тут же, в коридоре.
Вообще мы занимались этим, не взирая на время суток. Читаем в разных комнатах, например, целомудренные отчеты классиков. Цветочки, бабочки, господа и дамы… И дамы! Я представил свою даму со скрещенными стопами на спинке дивана, макушкой к окну, чтобы больше света на книгу. А книга на животе. Дама, скептически скривив рот, двумя пальцами перебирает в розетке инжир (укрепляет сердце). В конце концов, вещает доктор во мне, для здоровья женщины мое назначение полезнее, чем сухофрукты. Том в сторону (почти в хижину), и я в гостях!
В наши медовые недели, я хотел ее ежеминутно, и уставал лишь, когда она уже не могла. А она могла всегда. Стоило мне коснуться ее руки, запустить ладонь в копну каштановых волос под заколками, которые она, в конце концов, благоразумно убирала при моем возвращении домой. Мы были пьяны счастьем.
Вначале, как бы мы не прятались за слова, мы хотели друг друга: это удел всех влюбленных. Много позже купцы и поэты, сосуществующие в человеке, как-то договариваются о пропорциях взноса в общие закрома, и пользуются этим запасом в зависимости от того, кто сколько заготовил. А, в общем, это хмельное словоблудие от счастья. Что знает скупой разум о щедростях любви!
Лена же открыла другой мой секрет. Когда у нее наступали женские недомогания – дня четыре – меня приводил в исступление ее мягкий рот. Лена утверждала, что я первый мужчина, познавший от нее это удовольствие – ее несчастный прежний муж! Впрочем, мои бывшие знакомые одногодки в сравнении с Леной отбывали номер по какому-то бездарному самоучителю. Она оставалась женщиной и моей женой даже в том, чего стыдливая поэтическая строка панически избегает. И будет об этом.
В приемной ЗАГСА из дюжины добровольных рабов Гименея, на нас обратила внимание лишь юная пара: я справился у ребят, где брать бланки. Двое меланхолично поискали глазами мою невесту, взглянули на спутницу в собольей шубе и с пышной прической, рассеянно озиравшуюся. Для матери молода, для… впрочем, у них своих хлопот навалом…
Полная дама лет сорока любезно прочла нам краткое наставление «подумали-не подумали», изучила наши паспорта и быстро исподлобья посмотрела на Лену.
Нам дали два месяца на обдумывание и подготовку.
Выбор свидетелей, как выяснилось позже, определил участников праздничного банкета. Вернее: выявил отказников. О моих приятелях упомянули из вежливости. Друзья Лены отмалчивались. Одно дело, когда она устраивала чужое счастье, другое – ее личная жизнь, на которую никто не решался открыто сплевывать свое мнение.
Иногда бойкот полезен. Можно не появляться, где не хочется, но где тебя знают. Но долгая изоляция угнетает. Я остался для друзей Лены чужим. А она, как не храбрилась, переживала наше отшельничество. Именно наше, а не ее. Чужой город, отсутствие друзей – это позволяло мне сосредоточиться на работе. Конечно, было обидно за жену. Уехать в какой-нибудь круиз Лена не могла: была еще очень слаба после болезни. Да и сопровождать ее я не мог: наше с Ведерниковым предприятие требовало усилий. За городом, в низинах, овражках и чащах дотаивал грязный снег, и лишь самые смелые дачники выбирались на ревизию заколоченных окон и дверей. До лета мы вынуждены были оставаться в Москве.
Генерал-лейтенант в отставке, Николай Иванович Кузнецов, и его жена появились кстати. Из-за хронического невезения на хороших людей, я не ожидал встретить в Кузнецове человека интеллигентного. Возможно, из-за этого недостатка он не дотянул до военного олимпа. Кузнецовы еще хорошо не устроились в Москве и навестили нас первыми. Они любили Лену и презирали всех, кто плохо отзывался о ней.
Даже в гражданском костюме Кузнецов выглядел генералом. (С высоты моего старшинского прошлого.) Солидный, уставно подстриженный, профессионально подтянутый, с жесткой линией рта, тяжелыми веками и упрямым подбородком. Плюс широкий лоб в аккурат под генеральскую фуражку. Он напоминал актера Крючкова, но гораздо позже «Трактористов». Я ждал услышать «хе-хе-хе» водевильного Чеховского генерала. И вдруг за суровым обликом мягкий голос и веселое остроумие.
Генеральша, Наталья Олеговна, худенькая, глазастая, вечная девочка, напоминала Нэнси Рейган. Генерал никогда не перебивал жену, даже, если ей случалось увлечься, и слушал внимательно.
Вероятно, сначала Кузнецовы решили, что я дурак, а под конец остановились на мысли, что я очень хороший и славный человек, и воспринимали меня, как юного спутника Лены, своевременно оказавшегося рядом с ней, как и должно другу. Это определило нашу обоюдную симпатию.
Пока женщины сплетничали и похихикивали в соседней комнате, с Кузнецовым я чувствовал себя вполне комфортно. Между нами не было натянутости, обычной в кругу знакомых Лены. Генерал заполнял паузы замечанием на подобии: «Артур, взгляните за окно. Изгиб этой ветки напоминает спину сидящей собаки, а?» Разговор перетекал к деревенскому символизму ключей Марии, к слезе есенинской собаки и рубцовским размышлениям о дружбе человека и четвероногих.
Кузнецовы охотно согласились стать нашими свидетелями в ЗАГСЕ.
Любовь действовала на меня благотворно. Я стал терпимей. Съездил домой и объяснился с матерью. Еще бы прошлым летом ее слезы и тихая истерика взбесили бы меня, но теперь я утешил и приласкал мать. Рассказал о невесте. Мать вздохнула и, наконец, решила: «Хоть последит за тобой!» Как сторожиха в школе. Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной.
Я даже попытался помириться с дядей и позвонил ему. Дядя удивился и сказал: «Так ты заходи!»
Иногда я хотел обнять прохожего, угостить его выпивкой, и рассказать о своем счастье. Ведерников шутил, что теперь будет вести дела лишь с новобрачными. Мне везло. Наверное, потому, что неудача не огорчила бы меня. Року было не интересно забавляться тем, кому ничего не надо, кроме любви. Я улетал в командировки. Но не выдерживал разлуки с Леной дольше перегона таксомотора в аэропорт. Телефонные счета в гостиницах превосходили счета за проживание. Ныряя в работу, или бездельничая, я был счастлив. У меня была Лена.
Она расцвела и помолодела, и, словно оттачивала на мне мастерство обольщения. Новое платье, новая заколка в волосах или старая заколка, вдетая иначе, тысячи ухищрений, и никогда не похожа на себя накануне.
Казалось, вот он апогей любви. Но новый день разгорался новой радостью. Мы нарушили пропорцию счастья, бессовестно копили и копили его, и не боялись утонуть в его океане. Недоумевали, зачем обедняли свою жизнь разлукой, уже забыв мучительную прелюдию любовного безумия.
Бывало, ночами мы переживали вслух минувшую зиму порознь. И готовы были бесконечно смаковать вариации сладкой фразы.
– Как я могла остаться в больнице? А если бы ты приехал?
– Я не мог не приехать. Я всегда знал это, даже когда думал, что хочу забыть!







