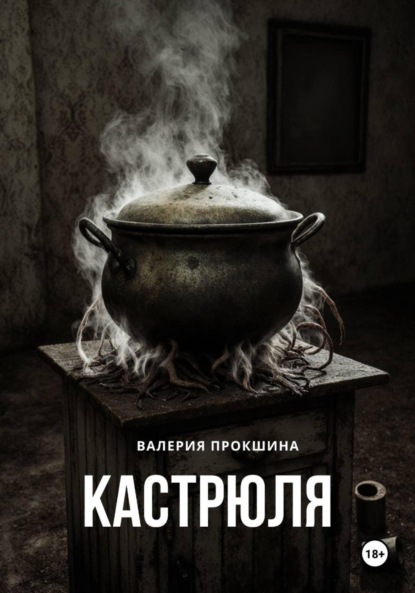Черновик
Черновик- Рейтинг Литрес:5
Полная версия:
Валерия Прокшина Зеркала
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Шаг.
Один.
Не громкий, не тяжелый. Но точно в прихожей. С тем легким тянущимся эхом, которое бывает только на узком пространстве, где стенам есть от чего отразить звук.
Она села. Не помнила, как встала. Просто уже шла к двери спальни, держа руку на стене. Свет включать не хотелось. Она выглянула в коридор. Фонарики на зеркале были выключены. Это было невозможно. Она не выключала их. В темноте зеркало казалось черной дверью, которой в этом доме никогда не было.
Она щелкнула выключателем. Лампочка под потолком вспыхнула резким белым светом. Гирлянда загорелась сразу, все лампочки ровным сиянием. Но первые доли секунды, пока глаз еще не успел привыкнуть к свету, ей показалось, что в зеркале она видит совсем не свою прихожую. Что там глубже, чем тут. Что за первым слоем стен идет второй, темный, и в нем кто-то стоит.
Это ощущение ушло так же быстро, как пришло. Она сделала пару шагов к зеркалу. В отражении была она сама, бледная, с синяками под глазами, в растянутой футболке, и за спиной у нее закрытая дверь. Все замки на месте, цепочка висит. Все правильно, все как надо.
Она подошла ближе. Сколько раз уже она тут стояла, рассматривая свое блеклое лицо. Сколько раз сама себе говорила, что надо наладить сон, купить витамины, начать нормально питаться, разобраться со своим ментальным здоровьем. Сколько раз смотрела себе в глаза и не видела там ничего, кроме усталости.
Сейчас она увидела другое. Отражение на долю секунды не совпало с движением. Она подняла руку, а в зеркале рука чуть дернулась с опозданием. Как при плохой связи в видеозвонке. На секунду, меньше. Но этого хватило.
Она резко вдохнула. Холод из зеркала был таким плотным, что в голове на секунду потемнело. Ей показалось, что свет в прихожей стал плоским, как картонная декорация, а где то в глубине стекла медленно поворачивается воздух, собираясь в воронку. Она хотела отойти, сделать шаг назад, но тело не послушалось, как во сне, когда ноги становятся ватными, тяжелыми и неподъемными.
В отражении она стояла чуть ближе к зеркалу, чем в реальности, шея была наклонена под другим углом, волосы лежали аккуратнее, чем она их помнила. Эта чужая аккуратность почему то встревожила сильнее, чем любые звуки и шаги. Внутри вспыхнуло простое, почти детское желание: просто отвести глаза и не смотреть больше на это. Но взгляд уже лип к стеклу, как к нему иногда липнут пальцы.
Отражение смотрело прямо на нее. Чуть внимательнее, чем человек обычно смотрит на самого себя. Уголки губ в стекле едва заметно дрогнули и сложились в осторожную, почти вежливую улыбку. Так могут улыбаться не знакомому, а узнаваемому. Улыбка была такой слабой, что ее можно было бы списать на игру теней, если бы не ощущение, что улыбается не лицо, а само стекло.
На миг она почувствовала легкий толчок, как в лифте, который трогается вниз. Ничего вокруг не изменилось: та же прихожая, та же лампочка под потолком, те же фонарики над зеркалом. Только сердце вдруг оказалось где то в горле, а пальцы на ногах перестали ощущать пол, словно опора ушла на сантиметр вниз. Это чувство длилось совсем недолго, меньше секунды, как если бы она просто моргнула и на мгновение провалилась в темноту между вдохом и выдохом.
Ей даже показалось, что она действительно моргнула и все закончилось.
Она очнулась стоя. Это было страннее всего. Не было привычного ощущения тяжелого тела, которое валяется на диване или в кровати. Просто сразу стояла, босая, в своей прихожей. Только эта прихожая была какой то не той.
Гирлянда над зеркалом висела, но не горела. Все лампочки мертвые, матовые. Света не было вообще. Ни из спальни, ни из кухни. Лампочка под потолком не реагировала на выключатель. Тишина стояла такая, что звенело в ушах.
Она подошла к двери и попробовала замок. Рука сама туда потянулась, автоматическим движением. Замок не сдвинулся. Как будто был нарисован. Цепочка казалась настоящей, но пальцы соскальзывали как будто она мыло трогала, а не холодный металл. Она отдернула руку, вдохнула поглубже и повернулась к зеркалу.
В зеркале была ее квартира. Та самая, настоящая. В прихожей горел свет. Фонарики на зеркале мягко светились, переливались, как ей и хотелось. Из спальни тянулся теплый прямоугольник. На кровати лежала она. Ее же лицо. Ее же волосы. Ее же пижама. Мрак свернулся рядом, как черная запятая.
Она подошла ближе. В отражении ее "я" спала спокойно, даже слишком ровно, почти неподвижно. Потом дернулась, села. Посидела немного на краю кровати, как будто прислушиваясь к тишине. Она видела каждое движение, как в кино без звука. Фигура поднялась, прошла в коридор. Вышла к зеркалу. Стала перед ним.
Они оказались лицом к лицу.
Та, по эту сторону, ощутила, как по позвоночнику медленно ползет лед. Девушка в отражении выглядела, как она, но была какой то более гладкой. Лицо спокойное, глаза пустые, как будто в них убрали весь лишний шум, оставив только функцию. Она подняла руку, провела ладонью по волосам. Движение было привычным, но в нем не было ни капли жизни, только отрепетированный жест.
Потом отражение медленно улыбнулось. Уже не легкой полуулыбкой, а шире. Уголки губ поползли выше, чем надо, как будто кожу тянули невидимые пальцы.
Она поняла, что кричит, но звука не было. Зеркало, в котором теперь находилась она, не пропускало звук наружу.
Оболочка отвернулась и ушла в ванную. Через несколько секунд свет загорелся уже там. В зеркале прихожей было видно немного двери, но она все равно не могла отвести взгляд. Ей казалось, что если она сейчас моргнет, случится что-то еще хуже.
Оболочка вернулась, держа в руке красную помаду. Встала прямо напротив зеркала, развернула тюбик. Красный цвет показался абсурдно ярким, почти черным на том холодном белом свете, который всегда делают в ванных. Она медленно, не спеша начала обводить губы. Линия получалась ровной, очень аккуратной, как у тех женщин, которые всегда все делают правильно.
Потом подняла глаза.
Сейчас она смотрела не сквозь, а прямо в нее, вглубь, туда, где она стояла по другую сторону стекла. Взгляд был точным, прицельным, никакого расфокуса. Оболочка словно окончательно заметила ее, признала, что та существует.
И улыбнулась.
На этот раз губы не просто растянулись. Красная помада легла так, что улыбка стала чуть шире, чем позволяла анатомия, и на долю секунды показалось, что под кожей что-то шевельнулось, как у таракана, который лежит на спине и перебирает невозможными ногами.
Она попробовала отступить, но за спиной оказался не коридор, а черная стена, в которой не было ни двери, ни света. Зеркало перед ней было единственным окном в мир, куда она еще несколько недель назад шла с такими радужными ожиданиями. Теперь там жила другая.
Через неделю ее оболочка так же, как тысячи других людей, ехала утром в метро. Варежки зажаты в руках, на коленях сумка, в ушах наушники. Легкая красная помада на губах, практичный тональный крем, аккуратные стрелки. Ничего лишнего, идеально собранный облик офисного человека.
Рядом на сиденье устроилась девушка в светлой куртке, с яркими голубыми глазами и мягкой широкой улыбкой. Та самая. Та, что когда то ночью стояла у ее двери и не могла попасть "домой". Они сели рядом так, как садятся каждый день тысячи людей. Ноги параллельно, сумки между колен, плечи почти касаются.
Обе достали телефоны. Экраны вспыхнули одним и тем же холодным светом. Пальцы обеих начали листать ленту в одном и том же ритме.
Они не посмотрели друг на друга ни разу.
В окне вагона мелькали темные стены туннеля, и на какие то секунды стекло превращалось в зеркало. В этих коротких отражениях их лица выглядели немного иначе. Глаза там были глубже и темнее, чем следовало бы, а улыбки похожи на те, которые появляются у людей, которые наконец то нашли свое место.
В вагоне было тесно, но по ту сторону стекла было еще теснее.
Красные линии
То, что должно случиться, происходит без моего участия. Никаких усилий и никаких подсказок. Мир сам доводит каждую историю до ее последней точки. Я не заглядываю вперед: ваше будущее для меня такое же мутное, как запотевшее стекло.
До самого финала вы можете сворачивать, петлять, задерживаться. Это создает у вас ощущение выбора. Меня же это утомляет. Я слишком давно перестала путаться в ваших дорогах и судьбах.
Я смотрю, как вы живете, будто листаю старую кинопленку. Сцена за сценой, кадры дрожат, но бегут без пауз. Не потому что я выше или умнее. Просто близость заставляет привыкать, а привыкать опасно. Лучше держать дистанцию, слушать, как хрустит время, и позволять каждому шагу ступить туда, где ему место.
Иногда вещи сами находят тех, кому им стоит принадлежать. Я лишь немного сдвигаю их в сторону нужного человека. Не вмешательство, а движение по инерции.
***
Мое зеркальце оказалось в коробке на школьных трудах случайно. Там лежало все подряд: банки с блестками, комки старой пряжи, пуговицы, ленточки, куски поролона, картон, стеклянная крошка. Учительница разбирала это устало и механически, без интереса. Новогодние поделки давно превратились для нее в рутину. Она уже решила расколоть зеркальце и пустить осколки на шар, чтобы дети наклеили сверкающие кусочки и получили хоть что-то похожее на праздничную игрушку. Так они делали каждый год, и это было самым простым вариантом.
Но девочка почему-то вытянула именно это зеркальце и не дала его разбить. Долго вертела в руках, рассматривала, будто прислушивалась к нему, и решила оставить целым. Она порылась в коробках и вытащила моток розовой пряжи с блестящей проволокой. Учительница закатила глаза: ну что это за цвет для новогодней игрушки. Подошло бы серебро, золото, синее стекло, изумрудно-зеленый, красный, а не это зефирно-розовое недоразумение.
Но девочка будто не услышала. Уселась за парту, достала зеркальце и начала обвязывать его крючком, медленно и аккуратно. Петля к петле, по кругу. Пальцы у нее были уверенные, цепкие, как будто она делала это не в первый раз. Большая, неправильная рамка из розовой блестящей нити получилась какая-то непраздничная для новогодней игрушки и слишком кривенькая для оценки. Учительница только вздохнула и махнула рукой. Пусть делает, как хочет.
Она вязала молча и очень внимательно. Сама не знала, зачем и что она потом с этим розовым смешным и косым зеркальцем будет делать. Ну, повесят на елку, будет висеть и отражать новогодние фонарики и блестящие дождики.
Подарить его отцу она решила только вечером, когда узнала, что он уезжает на ночь глядя к своей матери, ее бабушке. Ехать было далеко, а рядом с бабушкой никого не осталось. Последние недели она плохо себя чувствовала: слабость, давление, отеки, кашель, но в больницу идти отказывалась, уверяла, что дотянет до праздников. В тот вечер ей стало совсем плохо, а бабушка была из тех, кто скорую не вызовет ни при каких обстоятельствах. Билетов на поезда уже не было, самолеты туда не летали, и отец, не раздумывая, решил ехать на машине.
Девочка протянула ему зеркальце перед выходом. Сказала, что в машине с ним будет светлее, хотя и сама не понимала, почему решила именно так.
***
Михаил покрутил в руках смешное зеркальце в вязаной кривой рамке – дочка подарила. Усмехнулся, чувствуя, как это маленькое розовое недоразумение неожиданно греет ладонь. На улице уже стемнело, и долгая зимняя дорога в другой город казалась чистым наказанием. Но что тут было выбирать: мать есть мать, даже такая упрямая и несговорчивая, как его. Он не мог оставить ее больную в хрущевке с выцветшим ремонтом, на окраине мира, перед праздником и в одиночестве. Весной ей должно исполниться девяносто четыре, и несмотря на ее вечные “я не доживу”, длящиеся уже лет двадцать, он поехал. Хоть ночью, хоть по снегу, лишь бы она дотянула.
Он убрал зеркальце в карман пуховика и вышел во двор. Воздух был сырой и неприятный – тот самый, от которого быстро холодеют пальцы, хотя на градуснике всего ноль. Снег в этом году почти не держался: выпадет на пару часов, превратится в мокрую корку и исчезает, оставляя после себя грязные разводы и бесконечные лужи. Из-за этого вечерами казалось ещё темнее, чем должно быть в декабре: свет фонарей тонул во влажном воздухе.
Двор выглядел уставшим. Мокрый асфальт поблескивал под фонарем, отражая расползающиеся пятна света. Узкие полосы снега у кустов таяли сразу, не успевая стать даже нормальным снежным покровом. Все вокруг было промокшим, тусклым и какое-то время – совершенно неподвижным.
Михаил прогрел машину, бросил пакет с продуктами на заднее сиденье и достал из кармана розовую подвеску. Он повесил ее на крепеж за зеркалом заднего вида, туда, где обычно висят ароматические елочки. Подвеска слегка качнулась и поймала слабый отблеск от приборной панели. Детская вещь выглядела там чужеродной, как будто она принадлежала другой машине, другому человеку. Пусть висит, дочка старалась.
Когда он выехал со двора, город кончился неожиданно быстро. Пять минут – и привычные огни исчезли, будто кто-то выключил свет сразу по всему периметру. Трасса впереди тянулась ровной пустой полосой, а над ней висел низкий мокрый туман, тот самый, что собирается при моросящем дожде. Он не падал и не клубился – просто оседал в воздухе, как пыль в заброшенном помещении, делая картинку впереди плоской и бесцветной.
Шум шин и хрипловатое радио создавали иллюзию безопасности, но в воздухе чувствовалось что-то неправильное: ощущение, что он въехал не в ночь, а в затянувшийся коридор, где время течет чуть иначе, звук уходит в сторону, а дорога будто повторяет сама себя.
Он прибавил громкость – не чтобы слышать лучше, а чтобы заглушить то, что начинало шевелиться внутри тишины. Михаил выехал по направлению к северу.
***
Он ехал уже минут двадцать. Дорога ровная, пустая, фары упирались в плотный серый туман, будто в мутное грязное стекло. Становилось тоскливо. Чтобы не заснуть под монотонный бубнеж радио, он переключил станцию и прибавил громкость. На волне играла какая-то легкая попса. Нормальная музыка, слишком легкая для такой ночи, но лучше тишины.
За окном клубился редкий мокрый снег, не падая, а как будто зависая в воздухе. Он вяло стукался о стекло и сразу исчезал, оставляя мутные следы, из-за которых мир впереди становился еще более бесцветным. Михаил поймал себя на том, что уже несколько минут едет будто в вакууме: ни встречных машин, ни указателей, лишь редкие тусклые фонари на обочине, которые только подчеркивали пустоту впереди – туман и узкая полоса дороги, уходящая в никуда. От этой пустоты начинало давить в грудной клетке, как будто ночью воздух становился гуще. Он еще прибавил громкость радио, чтобы заглушить свои тревожные мысли.
Песня внезапно оборвалась. Зашипело. Сначала тихо, как будто кто-то тер ладонями по микрофону. Михаил поморщился и переключил волну. На следующей – тоже самое: хрип, плавающая тень женского голоса, будто сквозь воду.
«Да что за…» – пробормотал он, постучал пальцем по панели, словно это могло помочь.
На третьей волне радио ожило. Кто-то что-то говорил – короткие фразы, очень тихо. Похоже на дальнобойную рацию, где всегда присутствует полузаспанный баритон, брань, объявления. Но здесь слова были странно разрозненными, словно их выдернули из разных разговоров.
– …трассу… перекрыли…– …дальше… не ходи…– …нашел… возле столба…– …лежала… вся… снегом замело…
Михаил насторожился, но списал все на помехи: погодные условия, вышки, черт его знает что. Он снова переключил волну.
Тут радио выдало резкий треск, как будто что-то металлическое прошло по проводу, и на секунду эфир очистился. И в этой секунде он отчетливо услышал:
– Искали, искали… а собаки первыми нашли…
Голос был старческий. Еле слышный. Усталый так, что от одной интонации по спине прошел холод.
Михаил дернул плечом. Слишком живой, слишком настоящий голос для радиопомех. Совсем не в духе ночных передач.
Он подался вперед и посмотрел на приборную панель, будто это могло дать логическое объяснение.
– Помехи… – пробормотал он, – фигня какая-то.
Радио снова зашипело и прохрепело:
– Собаки первыми нашли…
Фраза тут же сорвалась в помехи. А потом повторилась – смещенная, словно воспроизведенная с другого места той же записи:
– …собаки… первыми нашли…
Потом еще раз и еще. На последнем повторе одно слово будто заело:
– …нашли… нашли… нашли…
Михаил раздраженно убавил звук, но перед тем как радио окончательно завалилось в серый треск, из хрипа вынырнула еще одна фраза – слишком тихая, будто случайно прорвавшаяся наружу:
– Не лежи в снегу один… холодно ж… холодно…
После этой фразы наступила тишина. Чистая, плотная, как в пустой комнате.Михаил подумал, что ему просто померещилось. Мало ли откуда берутся голоса – эфир, дальние станции, непонятные переотражения. Мозг сам додумывает.
Но что-то в животе неприятно сжалось. Михаил почему-то почувствовал себя совсем мальчишкой.То же чувство, из далекого детства, когда он боялся заходить в темный подъезд и, собираясь с силами, глубоко вдыхал и несся до четвертого этажа по мрачной лестнице с такой скоростью, будто за ним и правда гналась толпа зомби.
Радио окончательно затихло и выдало сухое «пш-ш-ш…», словно кто-то выдернул провод.
Михаил убавил громкость совсем и выдохнул через нос, стараясь не улыбнуться нервно. Ну что за ерунда. Пора бы уже остановиться, размяться, чай или кофе выпить – иначе голова точно начнет придумывать лишнее.
Впереди показался серый огонек – вывеска круглосуточной заправки. Он невольно прибавил скорость. Пальцы на руле были влажными, и Михаил никак не мог понять, почему от какого-то сбившегося радио ему, взрослому и сильному, вдруг захотелось развернуться и помчаться обратно домой так же, как будто ему снова восемь, и он мчится по лестнице домой, боясь оглянуться.
Под навесом заправки было неожиданно светло. Желтые прожекторы били сверху таким ярким светом, что туман вокруг казался почти белым. После полутемной дороги это даже резануло глаза. Михаил поставил машину у автоматов, выбрал кофе и присел за столик в зоне кафе.
Он глотнул обжигающе-горячий кофе. Отвратительный, горький до рези – он такой не пил, ему всегда нужно было молоко или сливки, однако неприятное чувство, вызванное неадекватным радио, начало отползать куда-то внутрь. Потом он откусил большой кусок хот-дога. Сытно, жирно, на грани мерзко, но тело благодарно успокаивалось. Когда устал, голоден и не спал почти сутки, мозг обязательно начинается вести себя странно. И переживания тоже приходят не вовремя: то за мать, то за семью, которую он оставил в мокром туманном городе.
Хотя чего там переживать? Дочка утром встанет сонная в школу, жена нальет себе чай и усядется за ноутбук, а кот, этот хитрый бездельник, приляжет где-нибудь поблизости, где тепло от батареи. Все будет как всегда.
Он сделал еще глоток, вдохнул запах жженого пластика и кофе – и на секунду почувствовал некоторую нормальность. Как будто выехал из кошмара в обычную жизнь.
Когда он допивал кофе, рядом послышался тяжелый шаг. Кто-то поставил пластиковый стакан на стойку, чуть стукнув им о деревяшку. Михаил повернул голову – рядом стоял дальнобой. Высокий, в утепленной куртке, с распаренным носом и красными обветренными руками. Лицо усталое, но спокойное.
Михаил колебался. Спрашивать или нет? То, что случилось по радио, было такой ерундой, что даже вслух это звучало бы глупо. Какие-то помехи, старческий голос – мало ли что ловит приемник среди ночи. Но почему бы не уточнить? Просто так. Для себя.
– Приветствую. У вас радио нормально ловит здесь? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно.
Дальнобой отпил кофе, поморщился.
– Нормально, – сказал он. – У меня вообще помех нет. И рация чистая. Тут участок такой… странный, конечно, но сигнал всегда стабильный.
Михаил хмыкнул.
– Странный в каком смысле?
– В плохом, – честно ответил тот. – Трасса тут кривая, развороты тупые, плюс глина под асфальтом проседает каждый год. Наклон полотна меняется, машину может повести, если не держать руль. Особенно зимой. Плюс туман здесь часто садится. Видимость падает, как будто стекло мутное перед носом поставили. Люди просто не успевают среагировать.
Он сделал паузу, повернул стакан в руке.
– Я как в начале двухтысячных пошел сюда кататься, так тут венки стояли через каждые пару сотен метров. Сейчас часть убрали, но местные все равно помнят, байки придумывают про привидения. Много народу разбилось. Тут и без мистики хватает приключений.
Михаил кивнул.
Ну а что он вообще рассчитывал услышать? Что в радио у него завелся барабашка и пытается передать привет?
– А у вас… голоса какие-то посторонние появлялись по радио, помехи? – сказал он небрежно, будто между делом.
– Голоса? – дальнобой фыркнул. – Нет. Разве что потусторонние, – и примирительно усмехнулся. – Шутка юмора. У меня все чисто. Что, поймал что-нибудь?
Михаил пожал плечами.
– Да нет. Помехи просто. Думал, может, здесь так всегда.
– У всех по-разному, – ответил дальнобой. – Ну помехи, бывает, передача какая-то идет по радио, наверное, вот голоса и зажевало. – Он сказал это спокойно, без намека на тревогу. Но от его спокойствия Михаилу стало чуть хуже.
Он сделал глоток остывающего кофе и отстранился, глядя в окно, будто разговор вышел бестолковым, но заноза внутри осталась – отчетливое чувство, что услышал он совсем не сбой в эфире.
***
– Мертвый угол тут, – сказала девушка.
Михаил поднял глаза. Рядом стояла работница парковки – совсем молоденькая, в свитшоте с логотипом заправки, с аккуратно собранными волосами. Она методично вытирала столик, за которым он сидел с кофе.
– Извините, что подслушала, я правда случайно, – сказала она, чуть смутившись. – У вас не одного техника тут выходит из строя. На этом отрезке трассы у всех что-то барахлит. Мы даже шутим, что место аномальное. Машины постоянно разбиваются. Осенью семья целая погибла, с маленьким ребенком.
Михаил кивнул, чувствуя, как внутри опять шевельнулась та самая заноза.
Он долго колебался, прежде чем решился:
– Техника барахлит, говорите… У меня по радио… странные помехи были. – Он нервно посмеялся, попытался перевести в шутку. – Глупости, конечно. Просто такого раньше не встречал.
Девушка остановилась, держась за тряпку.
– Помехи? А что говорили?
– Женщина. Старческий голос. Что-то про собак.
– Про собак? – она удивленно подняла брови. – Это что-то новое. Тут обычно другое рассказывают. – Она немного понизила голос и чуть смущенно улыбнулась. – Вы надо мной смеяться будете, конечно…
Михаил почувствовал, как слегка вспыхнули уши. Девушка была чертовски милая.
– Нет-нет, расскажите. Я сам не понимаю, куда меня занесло. Вроде бы от города тут всего ничего.
– Ну… это мне местные говорили, – она присела напротив, опершись локтями на стол, – что тут в девяностые вообще дичь была. Как пиратство какое-то. Фуры грабили, машины останавливали.
Михаил усмехнулся про себя: в девяностые вообще дичь была везде, что уж тут.
– И одного дальнобойщика убили, – продолжила девушка. – Водитель был из “Красных линий”. Не знаю точно, что он вез, но, говорят, бандиты проломили ему голову какой-то железякой, а в фуре ничего ценного не оказалось. И с тех пор то его видят, то фуру эту призрачную.
– “Красные линии” и сейчас ездят, – заметил Михаил.
– Да, но эта другая, – девушка нахмурилась. – Она призрачная… Светится, как привидение.
Михаил улыбнулся – девушка была очаровательная, но истории ее он всерьез, конечно, не воспринял.
Она же, словно вспомнив что-то еще, чуть понизила голос:
– Говорят, мужика нашли… ну… не целиком, по кусочкам. Кисти в одном месте, ступни в другом. Мне вот от этого особенно жутко.
Михаил скептически нахмурился.
– А вы сами сталкивались с чем-то… паранормальным? Не страшно тут работать?
– Честно? – девушка пожала плечами. – Нет. Я в десять уезжаю. Ночью тут другие. Да и вообще… не знаю, я сама особо в привидения не верю.
Михаил сделал глоток уже холодного кофе и почувствовал, как теплый, безопасный свет заправки вдруг стал казаться слишком ярким. Будто он сидит в стеклянной коробке посреди огромной черной пустоты.
Михаил выбросил стакан, поблагодарил девушку и вышел под навес. Свет заправки еще держался за него, слабо убеждая, что тревога – выдумка, а разговоры про привидения – дешевый местный фольклор. Он выдохнул, пытаясь вернуть себе обычное состояние, сел в машину и захлопнул дверь. В салоне стало глухо и тепло, и эта бытовая защищенность почти успокоила: все нормально, нечего дергаться. Фары прорезали туман узким тугим конусом, и пока он выезжал со стоянки, казалось, что ночь сдает позиции и дорога вот-вот станет обычной.
Но стоило отъехать чуть дальше, и свет заправки исчез так резко, будто кто-то выключил лампу прямо у него за спиной. Вернулся туман – вязкий, тяжелый, от которого дорога превращается в узкий коридор. Михаил набрал скорость, подсознательно пытаясь вырваться вперед, к цивилизации. Он проехал минут пять, может чуть больше, когда впереди, на самом краю света фар, словно из ниоткуда возникла фигура. Маленькая, сухонькая, сгорбленная старушечья спина – как будто из его собственных воспоминаний. В груди защемило; он подумал о своей матери, о ее упрямстве и гордой старости, о том, что должен торопиться к ней этой ночью, и от внезапной нежности стало трудно дышать.