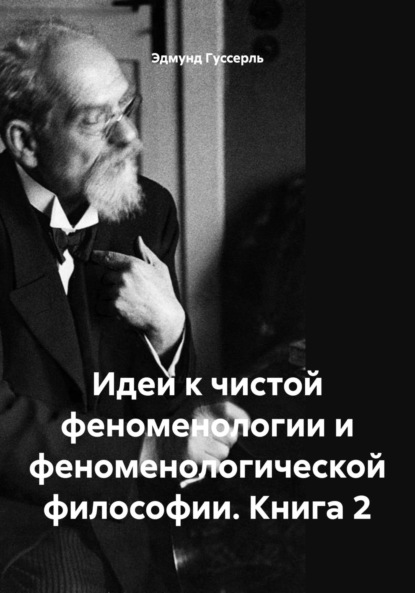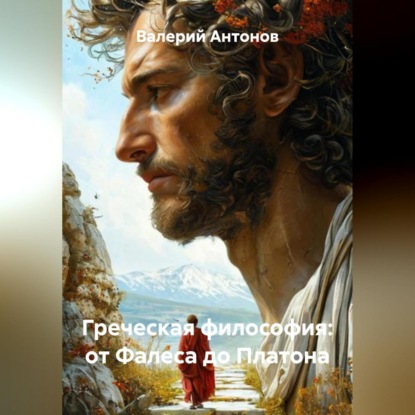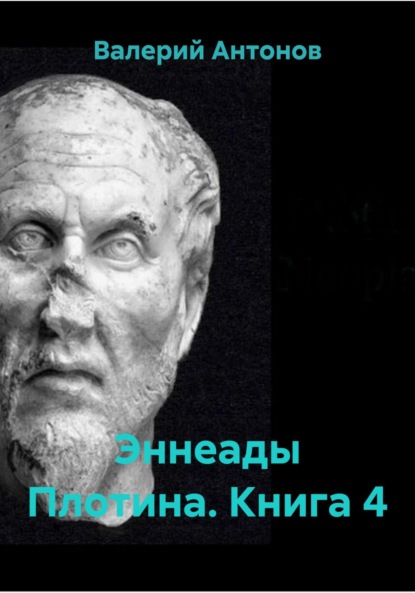Полная версия:
Валерий Антонов Эннеады Плотина
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Эннеады Плотина
Аннотация к «Эннеадам» Плотина.
Трактаты, собранные его учеником Порфирием в шести «Эннеадах», представляют собой не систематический учебник, а глубоко продуманную и внутренне связную интеллектуальную медитацию, разворачивающую иерархическую картину реальности. Исходным пунктом и центральным стержнем учения Плотина выступает понятие Единого – абсолютно трансцендентного, непостижимого рассудком первоначала, которое есть чистое благо и источник всякого бытия. Из неизреченного изобилия Единого, подобно свету, неизбежно истекает (эманирует) следующая субстанция – Ум (Нус). В этом акте самопознания Ума рождается мир идеальных форм, платоновских идей, где мысль и мыслимое тождественны. Это царство подлинного, вечного и совершенного бытия.
Из созерцающей деятельности Ума, в свою очередь, проистекает Душа (Психея), которая, обращаясь к Уму, пребывает в умопостигаемом порядке, а обращаясь вовне, порождает чувственный космос и время. Мировая Душа не создает мир из ничего, но организует пассивную материю, являющуюся последней градацией бытия, предельным ослаблением эманации, почти не-сущим. Индивидуальные человеческие души – неотделимые части этой Мировой Души, нисшедшие в телесность. Страдание и несовершенство человека проистекают из этой «смеси» и забвения своей высшей природы.
Отсюда выводится этико-психологический императив Плотина: цель жизни – «обратное бегство», возвращение души к своему источнику через очищение (катарсис), интеллектуальное сосредоточение и, наконец, мистическое восхождение. Высшей ступенью этого пути является экстатическое соединение с Единым, невыразимое переживание единства, где исчезает различие между познающим и познаваемым. Эта практика самотрансценденции имеет отчетливый современный резонанс в контексте поисков трансперсонального опыта и критики рассеянного, «внешнего» существования.
Внутренняя логика системы Плотина, таким образом, развертывается как диалектика исхождения (прободос) и возвращения (эпистрофе): от абсолютного единства через умножение и усложнение уровней бытия – к осознанному воссоединению с ним. Его метафизика, синтезировавшая платонизм с элементами аристотелизма и стоицизма, стала фундаментом всей последующей европейской мистической и идеалистической мысли. Современное звучание «Эннеад» заключается не только в их историческом влиянии, но и в предлагаемом ответе на экзистенциальный вызов: человек оказывается не случайным продуктом материального мира, а точкой встречи всех уровней реальности, обладающей потенциалом восхождения к Абсолюту через углубление в собственное сознание.
Эннеада
I
.
О человеке, добродетелях, счастье, прекрасном, природе зла. (Этико-антропологическая)
Первый тракт. Пределы тождества: как страдает тот, кто не может страдать.
Первый трактат Плотина – это не просто рассуждение о душе и теле. Это фундаментальное исследование границ субъективности, попытка ответить на мучительный вопрос: кто этот «я», который радуется, страдает, боится и мыслит? И если этот «я» страдает, то как он может быть бессмертным? Плотин начинает с простого перечисления феноменов, но его цель – не классификация, а демистификация. Его метод – не описание, а радикальная редукция, стремящаяся отделить подлинное бытие от его случайных и болезненных наслоений.
Логика его мысли разворачивается как строгая геометрическая прогрессия от частного к общему. Отправной точкой является очевидность: человек испытывает аффекты. Но кому они принадлежат? Телу? Тогда душа – лишь эпифеномен. Душе? Тогда она подвержена порче, и ее бессмертие – иллюзия. Или сложному целому? Но что это за целое и как оно составлено? Этот вопрос заставляет Плотина пересмотреть саму онтологию души.
Первое и ключевое открытие: душа не тождественна «бытию-в-качестве-души» акцидентально; она и есть это бытие. Это не качество, а сущность. Как сущность, она проста, самодостаточна и, следовательно, бесстрастна. Страсть предполагает изменение, недостаток, внешнее воздействие. Сущность же, по определению, есть то, что есть, и она не может стать иной, не уничтожившись. Поэтому страх, боль, вожделение – все это чуждо душе как таковой. Она может быть их причиной в ином, но не их субстратом. Это не этический постулат, а строгий логический вывод из понятия простой субстанции. Современный ум видит здесь предвосхищение трансцендентального субъекта Канта – чистого, неэмпирического «я мыслю», которое сопровождает все представления, но само не является объектом опыта и свободно от его содержаний.
Однако факт воплощенного страдания отрицать нельзя. Поэтому Плотин выстраивает второй, диалектический шаг: модель пользования телом как орудием. Душа – кормчий, тело – корабль. Повреждение корабля не есть повреждение кормчего. Но тут же возникает контрдовод: чтобы пользоваться орудием, нужно получать от него информацию. Так рождается концепция сложного живого существа (τὸ κοινὸν ζῷον). Это не просто тело + душа, а новое образование, «третий род», возникающий, когда душа, оставаясь собой, излучает в тело некий «свет» жизни, формируя оживленную природу. Именно это сложное существо, а не душа, является субъектом восприятия, боли, желания. Оно – продукт взаимодействия, интерфейс между чистым сознанием и материальным миром.
Этот ход мысли разрешает апорию, но порождает новую: двойственность «мы». В обыденном опыте «мы» отождествляем себя с этим сложным существом – его страхами, его радостями, его смертностью. Но в акте философской рефлексии, в моменте чистого мышления открывается иное «мы» – то, что созерцает эти страсти со стороны, бесстрастное и вечное. Плотин не просто констатирует эту двойственность; он устанавливает строгую иерархию. Эмпирическое «я» с его «львиными» страстями и «пестрыми» влечениями – это наше (ἡμέτερον), но не мы сами (οὐχ ἡμεῖς). Истинный человек (ὁ ἀληθὴς ἄνθρωπος) – это умопостигающая душа. Добродетели низшие (мужество, умеренность) принадлежат сложному существу; высшая же добродетель – мудрость (φρόνησις) – есть деятельность уже отделимой души.
Так Плотин приходит к своему этическому и сотериологическому выводу. Страдает и несет наказание в Аиде не душа, а ее отражение, «образ Главка», облепленный наростами опыта. Философия – это практика очищения (κάθαρσις), снятия этих наслоений через обращение (ἐπιστροφή) ума к самому себе. Цель – не улучшить животную жизнь, а осознать свою не-тождественность ей. Нисхождение души в тело – не грех, а необходимое следствие ее плодотворности, ее способности излучать жизнь. Грех – в обращении вовне, в отождествлении себя с этим излучением, а не с его источником.
Современное звучание этой схемы оглушительно. В эпоху нейронаук и редукционистской психологии плотиновский анализ предлагает мощный язык для сопротивления тотальному сведению сознания к мозговым процессам. Он напоминает, что вопрос «Что такое человек?» не решается через каталогизацию его реакций. Человек – это то, что ставит этот вопрос, и этот вопрошающий субъект не может быть полностью объективирован. Феноменология, экзистенциализм, некоторые направления философии сознания – все они сталкиваются с той же проблемой: как мыслить «я», которое одновременно является условием мира и частью этого мира. Плотин отвечает радикально: путем различения уровней бытия. Его учение – не бегство от реальности, а попытка найти внутри самой субъективности точку абсолютной опоры, неуязвимый архимедов рычаг для подъема к подлинному существованию. Страдание, заблуждение, смерть реальны, но они реальны для того, кем мы не являемся в своей глубочайшей сути. Осознать это – значит не отрицать трагедию эмпирической жизни, но обрести свободу внутри и вопреки ей. Философия, таким образом, становится актом предельного саморазличения, в котором человек вновь обретает свое божественное, неумирающее начало.
1. О природе живого существа и человека.
Исходный вопрос Плотина носит строго аналитический характер и направлен на установление онтологического статуса субъекта переживаний и познания. В центре внимания оказываются различные состояния, такие как удовольствия, страдания, страхи, смелость, желания и отвращения. Философ последовательно исследует, какому началу – душе, душе, пользующейся телом, или некоему третьему образованию, составленному из обоих – эти состояния могут быть приписаны. Этот вопрос не является отвлеченным, но ведет к фундаментальному определению сущности живого существа и, в частности, человека.
Плотин тщательно разбирает возможные варианты. Если принять третью возможность – составное существо, то и здесь требуется дальнейшее уточнение: представляет ли оно собой просто смешение (μῖγμα) двух природ или нечто новое, отличное от простой суммы частей, некую новую сущность (ἄλλο ἕτερον ἐκ τοῦ μίγματος). Этот логический ход демонстрирует метод восхождения от частных проявлений жизни к ее принципу. Вслед за анализом аффектов (παθήματα) он ставит под вопрос и природу действий, мнений, размышления (διάνοια) и собственно мнения (δόξα), которые либо происходят от того же субъекта, что и страсти, либо имеют иное происхождение. Критическому рассмотрению подлежат даже высшие познавательные акты – νοήσεις (умопостижения), а также само начало, которое осуществляет это исследование и выносит суждение – рефлектирующее сознание.
Логичным отправным пунктом для такого анализа Плотин избирает чувственное восприятие (αἴσθησις), поскольку страсти либо суть некоторые виды восприятия, либо не существуют без него. Этот выбор методологически важен: отправляясь от наиболее доступного и общего для всего живого опыта – способности ощущать, – можно постепенно восходить к более сложным и высшим способностям, выявляя их носителя. Таким образом, внутренняя логика трактата строится как движение от множественности конкретных психических феноменов к единству их источника, что является классическим примером применения платоновского метода сведения многого к единому. Современное звучание этого подхода заключается в его феноменологической строгости: прежде чем строить теории о сознании или душе, необходимо описать и классифицировать сами переживания и спросить о том, кому или чему они вообще принадлежат. Это вопрос о субъективности, которая предшествует любым ее конкретным содержаниям, оставаясь центральной проблемой как философии сознания, так и психологии.
2. О сущности души и ее свойствах.
Плотин переходит к тончайшему различению, имеющему ключевое значение для всей его метафизики: необходимо понять, тождественна ли душа (ψυχή) самому бытию-в-качестве-души (τὸ ψυχῇ εἶναι) или это разные вещи. Этот вопрос не является схоластическим; от его решения зависит, может ли душа как таковая быть подвержена аффектам и изменениям. Если душа есть нечто сложное, составленное из сущности и ее бытийной функции, то тогда допустимо, что страсти, худшие или лучшие состояния (ἕξεις καὶ διαθέσεις) принадлежат ей самой. Однако Плотин развивает альтернативную и, как очевидно из хода мысли, предпочтительную для него концепцию. Если душа тождественна чистому бытию-в-качестве-души, то она есть эйдос (εἶδός τι), определенная форма, непричастная (ἄδεκτον) всем тем активностям (ἐνεργειῶν), которые она производит в другом (ἄλλῳ), но обладающая собственной, сросшейся с ней (συμφυᾶ) внутренней энергией.
Из этого строгого определения следуют радикальные выводы о природе души, выстроенные с неумолимой логикой. Подлинное бессмертие (ἀθάνατον) и нетленность (ἄφθαρτον) требуют бесстрастности (ἀπαθές). Бесстрастное начало может быть активным, даруя себя иному (ἄλλῳ ἑαυτοῦ πως διδόν), но само оно не получает ничего от низшего, а лишь от высших, предшествующих ему принципов (παρὰ τῶν πρὸ αὐτοῦ), от которых оно не отсечено. Далее Плотин последовательно отрицает возможность для такой сущности испытывать все перечисленные ранее состояния. Страх возможен лишь для того, что способно претерпевать (δύναται παθεῖν) извне; бесстрашное начало не нуждается и в смелости (θάρρος). Телесные желания (ἐπιθυμίαι) связаны с наполнением и опустошением тела, которое есть иное (ἄλλου), а не сама душа. Соитие и внесение чего-либо извне (ἐπεισαγωγὴ) были бы для простой сущности стремлением к не-бытию (εἰς τὸ μὴ εἶναι ὅ ἐστι). Боль и страдание еще более чужды ей, ибо простая, самодостаточная (αὔταρκες) сущность пребывает в своем собственном бытии. Удовольствие же предполагает прибавку некоего блага, но истинно сущее (ὃ γάρ ἐστιν) уже обладает им всегда.
Это рассуждение подводит к важному эпистемологическому ограничению: чистая душа не обладает ни чувственным восприятием (αἴσθησις), ни рассудком (διάνοια), ни мнением (δόξα). Восприятие есть принятие формы или страдания тела, а рассудок и мнение оперируют на основе восприятия. Таким образом, все эти способности принадлежат не душе самой по себе, а сложному живому существу. Остается открытым вопрос об умопостижении (νοήσις) и чистом, не телесном удовольствии (ἡδονὴ καθαρᾶς): могут ли они быть атрибутами обособленной души? Этому будет посвящено дальнейшее исследование. Внутренняя логика аргументации здесь очевидна: Плотин очищает понятие души от всех атрибутов, связанных с телом, временем и становлением, чтобы утвердить ее как вечный, простой и самотождественный эйдетический принцип жизни. Современное звучание этого пассача – в радикальном разделении между феноменальным, эмпирическим субъектом переживаний и трансцендентальным основанием сознания, которое само по себе не является объектом опыта и свободно от его содержаний, оставаясь условием их возможности.
3. О взаимоотношении души и тела.
Плотин вновь обращается к изначальной проблеме, но теперь в рамках конкретного условия: душа помещена в тело, и из их соединения образуется живое существо (ζῶιον τὸ σύμπαν). Это допущение порождает новый круг вопросов, требующих согласования с ранее установленными свойствами чистой души. Развивая важную платоническую метафору, Плотин рассматривает душу как пользующуюся телом как орудием (ὄργανον). Эта модель имеет ключевое следствие: ремесленник не принимает на себя повреждения своего инструмента. Следовательно, душа не должна с необходимостью принимать страдания (παθήματα), возникающие в теле.
Однако модель орудия немедленно сталкивается с необходимостью объяснить генезис опыта. Если душе надлежит пользоваться телом, она должна как-то узнавать о его состояниях, чтобы адекватно им реагировать. Отсюда признается, по-видимому, с необходимостью, существование восприятия (αἴσθησις), которое позволяет душе-пользователю познавать внешние воздействия. Пользование глазами, по сути, и есть зрение. Но если инструмент поврежден, это может повлиять на саму способность им пользоваться. Таким образом, через связь с поврежденным органом к душе могут приходить боль, страдание и – косвенно – желания, направленные на лечение инструмента. Здесь Плотин нащупывает границу между бесстрастной сущностью и ее вовлеченностью в управление изменчивым телом.
Далее философ ставит принципиальный метафизический вопрос: каким вообще образом телесные состояния (πάθη) могут передаваться бестелесной душе? Тело может сообщать что-то другому телу, но каков механизм передачи от тела к душе? Это было бы равносильно тому, чтобы страдание одного субъекта вызывало страдание в совершенно ином субъекте. Плотин фиксирует здесь фундаментальную трудность психофизической проблемы: как непространственное, бескачественное сознание может взаимодействовать с протяженной, качественной материей?
Это затруднение заставляет философа пересмотреть первоначальную модель чистого пользования, предполагающую полную раздельность пользователя и орудия. До философского разделения, в обыденном состоянии, душа и тело каким-то образом смешаны. Плотин перечисляет возможные типы этого смешения: это может быть полное слияние (κρᾶσίς), взаимопроникновение (διαπλακεῖσα), неотделимая форма (εἶδος οὐ κεχωρισμένον), соприкасающаяся форма (εἶδος ἐφαπτόμενον) – подобно кормчему на корабле, – или, наконец, душа может быть представлена в двух аспектах. Именно последний вариант, судя по дальнейшему, кажется Плотину наиболее продуктивным. Часть души, собственно пользующаяся начало (τὸ χρώμενον), остается отделенной, в то время как другая часть оказывается смешанной (μεμιγμένον) с телом, будучи помещенной в порядок того, чем пользуются. Задача философии – повернуть эту смешанную часть к отделенной, высшей части (ἐπιστρέφῃ πρὸς τὸ χρώμενον) и отвести саму отделенную часть, насколько это возможно, от тела, чтобы она не была вынуждена постоянно им пользоваться.
Таким образом, внутренняя логика рассуждения ведет от жесткой дихотомии к более гибкой иерархической модели. Душа не едина в своем отношении к телу: в ней есть высший, непричастный страданию полюс и низший, вовлеченный в управление и, следовательно, в потенциальную аффектацию полюс. Современное звучание этой схемы заключается в попытке разрешить парадокс сознания: как тождественное, чистое «Я» может одновременно быть источником сознательной жизни и подвергаться влиянию физических процессов? Ответ Плотина – в раздвоении субъекта на трансцендентальное эго и эмпирическое, воплощенное сознание, где первое сохраняет свою чистоту, а второе служит медиатором между миром идей и миром становления. Философская практика есть процесс внутренней дифференциации и воссоединения с самим собой.
4 Об анализе смешения души и тела.
Продолжая анализ гипотезы о смешении (μεμῖχθαι) души и тела, Плотин подвергает ее строгой критике, выявляя внутренние противоречия и отстаивая онтологический приоритет души. Если допустить такое смешение, то возникает парадоксальный обмен свойствами: худшее, тело, становится лучше, получив участие в жизни, а лучшее, душа, становится хуже, приобщившись смерти и неразумия. Этот тезис – не просто риторика, а логическое следствие допущения равноправного смешения двух разнородных природ. Для Плотина неприемлема сама идея, что бестелесная и вечная причина может ухудшиться от соединения со своим следствием. Возникает и конкретный вопрос: каким образом тело, лишенное жизни, могло бы получить в качестве добавки способность чувствовать? Напротив, более последовательным кажется вывод, что именно тело, получив жизнь, становится тем субъектом, который причастен восприятию и сопутствующим ему аффектам.
Следуя этой логике, именно тело – как оживленное и оформленное начало – будет желать, наслаждаться, бояться за себя, испытывать лишения и подвергаться разрушению. Однако признание этого факта не отменяет необходимости исследовать сам способ предполагаемого смешения. Плотин сомневается в самой его возможности, проводя аналогию с невозможностью смешения белизны и линии – двух разнородных природ. Даже если принять образ взаимопроникновения (διαπλακεῖσα), он не ведет к уподоблению состояний проникшихся друг в друга начал. То, что проникло, может оставаться бесстрастным (ἀπαθὲς), и душа, пронизывающая тело, может не страдать от его состояний, подобно тому как свет, наполняющий воздух, не загрязняется им, особенно если это проникновение является полным. Следовательно, сам факт взаимопроникновения еще не означает, что душа претерпевает телесные страдания.
Плотин далее анализирует альтернативную модель – душу как форму в материи (εἶδος ἐν ὕλῃ). Он сразу же оговаривает, что если душа есть сущность (οὐσία), то это форма отделимая (χωριστὸν εἶδος), что скорее возвращает нас к модели пользующегося начала. Если же уподобить ее форме, как форме топора на железе, то действия сложного целого – топора – определяются именно железом, обладающим такой-то формой. По аналогии, телесным страстям (πάθη) следует приписать телу, но телу особого рода – природному, организованному, потенциально обладающему жизнью (φυσικῶι, ὀργανικῶι, δυνάμει ζωὴν ἔχοντι). Именно это оживленное тело, живое существо (τὸ ζῶιον), а не душа сама по себе, является подлинным субъектом ткачества, желаний и страданий. Таким образом, через последовательную критику моделей смешения Плотин не просто отрицает их, но уточняет онтологическую карту: между чистой, бесстрастной душой и инертным телом существует опосредующее звено – одушевленное тело как целое, которое и является носителем эмпирической жизни и аффектов. Эта реконструкция позволяет сохранить трансцендентность души, объясняя при этом факты воплощенного опыта. Современный резонанс этого хода мысли – в различении между сознанием как чистой функцией и личностью как психофизическим комплексом, где аффекты и восприятия возникают на уровне целостного организма, а не как свойства невещественного «я».
5. О субъекте переживаний: живое существо, сложное целое или нечто третье?
Плотин систематизирует возможные ответы на центральный вопрос: что является субъектом аффектов и восприятия? Это может быть либо само живое существо (τὸ ζῶιον), либо тело определенного вида (τὸ σῶμα τὸ τοιόνδε), либо общее целое (τὸ κοινόν), либо некое третье (ἕτερόν τι τρίτον), возникшее из обоих. Независимо от выбора, перед мыслью встает фундаментальная дилемма: следует ли сохранять душу бесстрастной, признавая ее лишь причиной (αἰτίαν) таких состояний в ином, или же она должна разделять страдания (συμπάσχειν)? И если разделяет, то претерпевает ли она то же самое страдание (ταὐτὸν πάθημα) или же нечто подобное (ὅμοιόν τι), например, живое существо желает одним образом, а вожделеющее начало в нем действует или страдает другим?
Философ оставляет вопрос о теле особого вида для последующего рассмотрения, сосредотачиваясь на сложном целом. Как возможно, чтобы оно, например, страдало? Один из возможных путей – физиологический: тело определенным образом расположено, страдание доходит до уровня ощущения, и это ощущение завершается в душе. Однако сам механизм ощущения (αἴσθησις) все еще неясен. Другой путь – психологический: страдание может брать начало от мнения (δόξα) и суждения (κρίσις) о наличии зла для самого себя или близких, и уже отсюда печальное изменение передается телу и всему живому существу. Но и здесь возникает вопрос о субъекте мнения: души или сложного целого? Более того, само мнение о зле не содержит аффекта страдания; возможно иметь такое мнение, но не испытывать страдания, так же как мнение о пренебрежении не обязательно ведет к гневу, а мнение о благе – к желанию.
Это приводит к ключевому вопросу: как тогда эти состояния могут быть общими (κοινὰ) для составного существа? Возможно, в том смысле, что желание принадлежит желательному началу, гнев – гневливому, и вообще устремленность к чему-либо есть исступление (ἔκστασις) желающего начала. Однако при таком подходе они уже не будут общими, а окажутся принадлежностью одной только души. Или же они общи, потому что требуют участия тела: необходимо, чтобы кровь и желчь вскипели и тело определенным образом настроилось, чтобы возбудить желание, как в случае вожделений. Но желание блага, напротив, можно считать не общим аффектом, а принадлежащим лишь душе – как и многие другие состояния, и не все явления следует приписывать сложному целому.
Плотин подводит к парадоксу двойного субъекта. Когда человек желает чувственных удовольствий, желающим будет человек (ἄνθρωπος), но иначе (ἄλλως) будет желать и само желательное начало (τὸ ἐπιθυμητικόν). Как это возможно? Начинает ли человек желание, а желательное начало следует за ним? Но как человек вообще мог бы возжелать, если бы желательное начало не было приведено в движение? Значит, оно и начинает. Однако как желательное начало может начать, если тело не было предварительно расположено определенным образом? Здесь обнаруживается круговая зависимость, раскрывающая сложную природу составного субъекта: телесное расположение может пробуждать низшую часть души, а ее движение, в свою очередь, осознается как желание целостного «я». Внутренняя логика анализа ведет к признанию иерархической и функциональной дифференциации внутри живого существа, где аффекты рождаются на стыке телесного состояния и соответствующей душевной способности. Современное звучание этого рассуждения – в проблеме психофизического взаимодействия и в дискуссиях между когнитивными и аффективными теориями эмоций, где эмоция понимается не как простое ощущение, а как комплекс, включающий телесное возбуждение, когнитивную оценку и осознанное переживание, которые могут иметь разные, хотя и взаимосвязанные, источники.