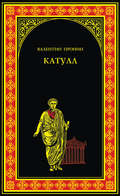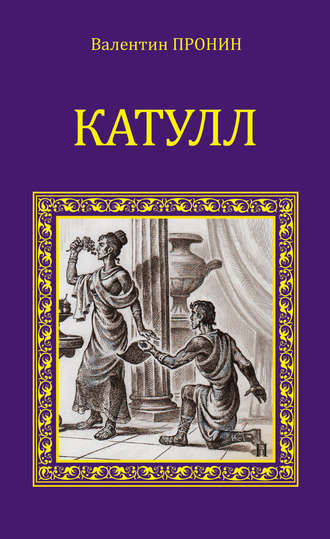
Валентин Пронин
Катулл
Часть вторая
I
Ветви платанов покрылись юной листвой. Шелестели упруго серебристые тополя. Голосами птиц звенели яникульские парки, лесистые холмы Лация и Тускула.
Плебеи готовились к заклинанию лемуров, опасных духов, зыбкими привидениями крадущихся во тьме. Защиты от них молят у повелительницы призраков, мрачной Гекаты, принося ей в жертву черношерстных животных. Рои зловредных нежитей множились в теплую весеннюю пору, подобно комарам-кровопийцам. Меняя свой облик, текучий и неосязаемый, они проникали в жилища, принося болезни и толкая на преступления: желтые, тухло смердящие духи болотной лихорадки, постыдные видом, неотвязчивые духи запретного сладострастия, красноглазые, клешнястые, ядовитые, как скорпионы, духи смертельной, необоримой зависти. Особую силу вся эта нечисть брала ночами – вилась над кладбищами, клоаками, выгребными ямами… Но ранним утром, когда над Тибром истаивал туман и в пригородных усадьбах кричали петухи, нечисть пряталась, а в городские ворота сотни повозок ввозили душистые снопы только что срезанных цветов. Густой аромат наполнял римские улицы, будто они превращались в росистые фиденские луга или пренестенские плантации. Жимолость, жасмин, фиалки, маки, гиацинты, глицинии, багровые, белые, пунцовые розы… в деревянных ведрах, глиняных кувшинах, медных тазах расставлялись на ступенях храмов, прямо на мостовой, у тибрской пристани Эмпория.
Нежная заря золотила крыши палатинских дворцов и многоярусных плебейских «клоповников», городские стены, колоннады и цирки, торжественный выход консула с ликторами и свитой, разодетых матрон, спешивших в свой день рождения к храму Юноны, и трупы гладиаторов, гниющие на поле между Эсквилинскими и Кверкветуланскими воротами.
Корнелий Непот встал с рассветом. Он надеялся пройти к Форуму по спокойным и сонным улицам, – есть своя прелесть в утреннем безлюдье самых оживленных обычно мест. Непот думал в числе первых оказаться у книжных лавок и найти на заваленных хламом полках что-нибудь из интересующих его редких книг. Но Рим уже наполнился энергичным движением и шумом.
Всю ночь к рынкам тянулись обозы. И сейчас еще повозки, скрипя, вкатывались в городские ворота. Из широкодонных барок, подплывавших к пристани, служащие работорговца Торания высаживали грустных невольников с вымазанными мелом ногами и гнали их к храму Кастора, где был постоянный невольничий рынок.
На Велабр – рынок съестных припасов – везли снедь со всей Италии, со всего света.
Торговые ряды расположились нескончаемой лентой по обеим сторонам Субурры, по Виа Дата, пересекавшей город из конца в конец, около Форума, на самом Форуме и на многих улицах и площадях.
Повсюду толкаются и шумят римляне и те, кто теперь тоже считают себя римлянами. Воинственные марсы и латины, вспыльчивые самниты, хитрые круглолицые этруски – знатоки древней мантики[113], приземистые, медлительные умбры, храбрецы луканы, грубые оски, сицилийские, тарентские, неаполитанские греки, светловолосые цизальпинские галлы и другие племена и народности, населявшие издавна долины, горы и побережья Авзонии[114].
А между ними ходят люди из дальних стран, приехавшие сюда временно или навсегда. Греки из Афин, Коринфа, Спарты, Фессалии и Эпира, греки со всех эгейских островов, с Кипра и Крита, и даже прибывшие из Тавриды и Сарматии – вездесущий народ Средиземноморья: купцы, философы, грамматики, ювелиры, врачи, поэты, актеры, музыканты, гадатели и гетеры. И, конечно, рабы, десятки тысяч греков-рабов.
Встречаются в Риме иллирийцы, фракийцы, македонцы. Это люди простого нрава, предпочитающие изобилию республики свои бедные горные деревни. Они хорошие пастухи и гладиаторы, – вспомним, что Спартак был фракийцем. Попадаются нередко иберы и лузитаны – жертвы испанских походов Помпея и Цезаря. Женщины этих народов нередко красивы, но у них нет лоска, общительности и приятной живости гречанок. На фракийцев и македонцев походят белокурые, голубоглазые, высокорослые варвары из косматой Галлии[115].
Бронзовые, угловатые египтяне – знатоки драгоценных камней и ядов. Их хрупкие женщины умеют петь тонким голосом, играя на арфе, и владеют тайнами немыслимого обольщения. Египтяне чаще притворяются, будто располагают волшебными познаниями древних, но так же, как и далекие предки их, злопамятны и коварны. В торговле детей Нила оттеснили их властители, александрийские греки; они привозят в Рим пестротканые покрывала, ароматы и снадобья, львов для травли, обезьян для забавы, чернокожих эфиопов и монеты с профилями Птолемеев.
В римской толпе мелькают горбоносые лица, клобуки и тюрбаны сирийцев, арамеев, персов, армян и прочих людей Востока, покоренного однажды Александром Великим и теперь, после победоносных походов Суллы и Помпея, вновь вынужденного прийти в тесное общение с Западом. От них несколько отличаются иудеи – не обликом, а особой племенной замкнутостью, нетерпимостью к чужим обычаям и обрядам. Впрочем, среди иудеев немало оборотистых и богатых торговцев; говорят, к ним благоволит Цезарь.
Когда-то вероломный и подобострастный Восток с его застарелой вонью, кудлатыми бородами, постыдной невоздержанностью был презираем до гадливого отвращения бодрыми и суровыми сыновьями Квирина[116]. И вот Восток влился в жизнь римлян, развратил их, изнежил, заставил даже беднейших искать роскоши и безделья.
Опустели храмы Юпитера и Марса. Толпа устремляется в восточные святилища, кликушествуя в непристойных мистериях. Нелепые суеверия увлекают даже образованных и рассудительных людей. Теряют своих приверженцев философские возвышенные учения эллинов. Сенаторы, сколько ни противились, вынуждены разрешить отправление иноземных культов, потребовав только, чтобы их мерзостные капища строились подальше от римских храмов, за городской стеной. Большего не смогли сделать поборники старого уклада и государственной религии; их жены и дочери, не скрываясь, направляются в храмы Сераписа и Изиды и тайно – в святилища Кибелы или Астарты.
Непот мысленно беседовал с самим собой. Где бы он ни находился, он чувствовал свое одиночество; связанное с ощущением бесспорного духовного превосходства, оно являлось итогом глубоких и целенаправленных размышлений. Умеренным образом жизни и воспитанием воли Непот поддерживал в себе эту внутреннюю сосредоточенность. Он не желал отдаваться праздности и грубым соблазнам, как Гай Катулл, который никогда не молит Муз о подлинном вдохновении. Катулл увлекается, пустословит и веселится, а вдохновение приходит к нему чаще всего по какому-нибудь ничтожному поводу. В глубине души Непот осуждал такое отношение к творчеству. Он продолжал питать свои размышления плодотворной пищей греческой мудрости. Историк как бы мысленно вглядывался в лица давно умерших героев, чтобы отыскать среди них прообразы своих будущих «Жизнеописаний».
Солнце давно поднялось. Непот перебирал пыльные свитки и переходил от одной лавки к другой. Пройдя почти полностью торговые ряды Аргилета, Непот неожиданно увидел Катулла, будто не случайно только что о нем вспоминал. Катулл смеялся, слушая болтовню какого-то развязного молодца.
Иной раз Непот огорченно думал о том, что столь щедро одаренный поэт растрачивает здоровье в оргиях, а скромные средства в модном мотовстве. Для поэзии ему не хватает времени. Непот ценил пытливую свежесть его ума и чистоту сердца. Но, будто нарочно, он удивлял друзей своим безграничным сумасбродством. Преданный и ласковый, как ребенок, Катулл вдруг мог проявить обидное высокомерие или в споре быть нестерпимо грубым. Потом он раскаивался, но ненадолго. В представлении веронца о честности не укладывались сложности политических ситуаций, в которых подчас оказывались некоторые из членов «александрийского» кружка, – любое проявление изворотливости приводило его в бешенство.
Катулл великолепно знал греческую и римскую литературу, он легко постигал недоступный многим поэтический смысл и красоту стихотворной формы. Поэзия была его сущностью, для выражения своих мыслей он всегда находил единственно точные, изящные и образные сочетания слов. В то же время он раздражал изысканных знатоков пристрастием к нескромным песенкам и примитивным притчам простонародья. С одинаковым увлечением он торопился на представления классических трагедий и уличных мимов, восхищаясь теми и другими, будто рыбак с Бенакского озера. Стихи Катулла были полны той же непосредственной откровенностью, что и его поведение, претившее благовоспитанным людям. Однако проницательный Непот терпеливо ждал от Катулла необычайного и не преувеличивал его видимых пороков. Он знал, что большей частью все это эффектная поза, вихрь безрассудной молодой бравады. Непот только спрашивал себя: когда наконец гений, посланный с Геликона[117], заставит взбалмошного Гая запеть иным, божественным голосом?
Заметив историка, Катулл обрадовался и потащил к нему своего приятеля.
– Милый Корнелий! – кричал Катулл на весь рынок. – Вот взгляни-ка, это редкостный болтун из рода Флавиев. Познакомьтесь.
Непот без особого удовольствия пожал руку краснолицему весельчаку.
– К своей знатности он относился с безразличием и не желает преуспеть на трибуне Форума, – продолжал трещать Катулл. – Дар Флавия состоит в удивительной памятливости на всякие уморительные сплетни…
– Да, тут уж меня не переплюнешь, – самодовольно согласился Флавий.
Оба были слегка навеселе: возбуждены и вертлявы, как ящерицы.
Непот улыбнулся со снисходительным добродушием:
– О каких же интересных событиях ты можешь рассказать нам, любезный Флавий?
– Флавий, не опозорься! Двинь-ка вовсю, чтобы умник Непот обомлел! – Катулл приплясывал от предвкушения забавы, как шаловливый мальчишка.
Флавий встал напротив Непота в комически-величественную позу и закинул узенькую пенулу через левое плечо.
– Итак, первое, драгоценнейший Непот. Когда гаруспикам[118] привели быка, чтобы они по бычьей печени определили – стоит ли возобновить войну с Парфией, случилась невероятная вещь. Подойдя к жертвеннику, бык поднял хвост и вывалил здоровенную лепешку. Гаруспики засуетились, стараясь оттолкнуть быка в сторону, но он стоял, как скала, а из-под хвоста у него лилось и шлепалось, пока весь жертвенник не оказался заляпанным навозом. После этого бык повернул к гаруспикам морду и явственно промычал: «М-Марк Красс».
Непот не удержался от смеха:
– Что же из этого следует?
Флавий «честно» округлил глаза и ответил:
– Гаруспики прекратили гадание и отпустили быка пастись на лужайку. Ведь и так стало ясно, что военные действия против Парфии вновь начнутся, когда во главе наших армий встанет Красс. История правдивейшая, не вызывающая никаких сомнений. Теперь – второе. Когда жрецы-авгуры насыпали пшеницы священным курам, чтобы определить по их клеву, как успешны будут заседания сената, то случилось еще более удивительное знамение. Три самых крупных курицы разогнали остальных и склевали всю пшеницу, хотя петух возмущенно клохтал, а обиженные куры жалобно стонали. Вот уж этому указанию богов объяснение дать проще простого. Тем не менее авгуры не смогли вразумительно его объяснить.
– Ну, мой Непот? Каков Флавиций? – веселился Катулл. – Он ведь не выдумывает эти истории, а только пересказывает то, о чем болтает народ.
– И последнее, самое достоверное известие… – заспешил Флавий, несколько разочарованный сдержанностью историка. – Умоляю, выслушайте! Говорят, Цезарь тайно посылал в Египет своих агентов… А зачем? Не догадаетесь никогда! Чтобы они проникли в гробницу Александра и отрезали у трупа указательный палец…
– И что же?
– Палец доставлен в Рим. Цезарь приказал оправить его в золото, носит на груди под туникой, словно детскую буллу[119], и надеется, что к нему придет слава непобедимого македонца.
– Катулл, мне кажется, эта тема пригодится тебе для эпиграммы, – усмехнулся Непот.
Беседуя, молодые люди двигались вдоль книжных лавок. Непот искал на прилавках исторические заметки Платона.
– Ты напрасно теряешь время, – сказал Катулл. – Найти сейчас в Риме редкую книгу – невозможно. Прошло время, когда книгами интересовались библиофилы и любознательная молодежь. Ныне разбогатевшие отпущенники, чванливые тупицы и спекулянты скупают все ценное из-за пустой похвальбы или корысти. Ты прольешь ручьи пота в розысках и сорвешь голос, уговаривая наглых барышников. Даже если у тебя достаточно денег, надежда слаба. Нужно иметь мощь Геркулеса, чтобы расчистить эти авгиевы помойки[120]…
Улыбнувшись, Непот произнес из Еврипида:
– Нет в мире положенья столь ужасного,
Нет наказания богов, которого
Не одолел бы человек терпением.
С сомненьем покачав головой, Катулл принялся показывать историку свитки. Хозяин лавки пытался расхваливать свой товар, но Катулл сердито замахнулся на него.
– Взгляни-ка, – говорил он Непоту, – назидательные поэмы Энния лежат на самом видном месте. А вот тяжеловесные трагедии Цесия, Аквина и других нынешних бездарностей… Сборники речей Цицерона, Катона, Гортензия, Красса… Напыщенные трагедии Пакувия… Трактат Варрона о распределении сельских работ на доходной вилле… Его же речи, исторические труды… Философия Полибия… О боги, опять Цесий! Это что? «Пчеловодство» Гигина. Гм, как сладко издано… Труд о сельском хозяйстве карфагенянина Магона – и в двадцати восьми книгах! Чтоб тебе провалиться в Эреб! Магистраты еще жалуются, что папирус дорожает, и египтяне дерут за него шкуру! Стихи, стихи… На греческом… О, «Сиракузянки» Феокрита[121]! Ты прав, мой Корнелий. Вот первая стоящая находка!
– «Сиракузянки» – прелестная комическая идиллия, – сказал Непот, заглядывая через плечо Катулла, и прочитал вслух заключительные слова простодушной героини Феокрита:
– Время, однако, домой. Ведь муж мой
не завтракал нынче.
Он и всегда-то как уксус, а голоден –
лучше не тронь!
– Эти слова необыкновенно точно относятся ко мне, – заявил Флавий, со скучающим видом переминавшийся с ноги на ногу. – Я устал. Я мечусь все утро среди толпы, словно мышь в ночном горшке…
– Удачное сравнение, – фыркнул Катулл. – Как видишь, и ты не лишен литературных способностей.
– Не смей толкаться… Мне неудобно за твое поведение перед воспитанным и выдержанным Непотом. Правда, я предпочитаю выдержанное фалернское… Как, ты не плачешь, расставаясь со мной, о, каменное сердце?
– Ты успеешь надоесть мне завтра, пьянчужка.
– Не корчь из себя стоика. Ты не меньше меня любишь попойки и всякие безобразия. На другом видишь вошь, а на себе клопа не замечаешь. Я покидаю вас, почтенные книжники, и отправляюсь на Табернолу, в таверну Плокама. Всего наилучшего!
Когда Флавий скрылся, Непот посмотрел на Катулла своими спокойными, серо-голубыми глазами и спросил:
– Не понимаю, где ты находишь таких… одаренных приятелей?
– У Флавиция есть остроумие уличного мима. Временами он смахивает, правда, на кабацкое отребье, хотя по рождению принадлежит к палатинской знати. С его помощью я изучаю нравы.
– Знатность происхождения ничего не значит, даже наоборот. Нынешние аристократы настолько опустились в отношении нравственности, что перестали стыдиться не только своих рабов, но и других людей. Поведение и разговоры самых блистательных матрон часто отдают рынком и лупанаром.
– Пожалуй. Ведь стыд и честь – как платье: чем больше потрепаны, тем беспечнее к ним относятся.
II
К полудню солнце становилось жестоким. Оглушительно вопили лоточники, предлагая прохожим жареные бобы и медовое печенье. Другие наливали в глиняные кружки ватиканской кислятины, соблазняли дешевыми украшениями и, подмигивая на угол, ласками веселых девиц.
На Палатине толкотни было меньше, чем в плебейских кварталах, однако группы аристократов, прогуливающихся в сопровождении клиентов и рабов, создавали и здесь заметное оживление.
Возле одного из патрицианских особняков, под великолепным портиком, у решетки, увитой плющом и виноградом, гудела толпа. Катулл и Непот подошли ближе. Оказалось, хозяева особняка отмечали какое-то семейное торжество, и любопытные собрались поглазеть на знатных гостей. Среди уличных бездельников выделялись элегантно одетые молодые люди, проявлявшие особое нетерпение. Эти щеголи торчали здесь, чтобы хоть таким способом увидеть светских красавиц – предмет своей безнадежной страсти. Влюбленные вздыхали и волновались. Остальные зрители перебрасывались дерзкими замечаниями, без стеснения разглядывали гордых нобилей, обсуждали наряды и драгоценности матрон.
Катулл нашел знакомых и вместе с ними издевался над тучными животами и красными от возлияний лысинами сенаторов.
– Послушай-ка, – обратился к нему Непот, – ты, кажется, спрашивал меня однажды про жену Метелла Целера Клодию…
– Я как-то видел ее издали, да ничего не разобрал.
– Она необыкновенно хороша. Можешь взглянуть на нее поближе. Вон две матроны, окруженные светскими хлыщами. Одна из них чуть повыше ростом, с черными волосами, – это Волумния, жена сенатора Агенобарба, а другая, светловолосая, и есть Клодия.
Продолжая смеяться чьей-то удачной остроте, Катулл повернул голову. Он не заметил прелестной Волумнии. Не отрываясь, остановившимися, будто от ужаса, глазами, он смотрел только на Клодию. Катулл не чувствовал суетного и жадного любопытства. Он был готов преклонить колени и молиться, уверенный, что к нему приближается олимпийская богиня. Но не такая, какой ее изобразили в мраморе суровые, рациональные стоики: с маленькой целомудренной грудью и мускулистым животом атлета, а в совершенном расцвете женственной красоты.
Клодия рассеянно взглядывала на толпу синими, чуть косящими глазами Венеры.
Пронизанную солнцем, полупрозрачную столу жемчужного цвета соткали в невообразимо далекой стране серов[122] и доставили в Рим через Индию и Египет будто лишь для того, чтобы, надев ее, Клодия не могла скрыть ни одного изгиба своего прекрасного тела… В это верили все, в их числе и обомлевший Катулл.
Беседуя с Волумнией, Клодия подошла ближе. На груди ее переливался огненно-красный опал, на руках блестели золотые браслеты.
Катулл перевел взгляд на белоснежный паллий[123], волочившийся по отшлифованным плитам, потом на золоченые туфли с сапфирами в виде крошечных звезд. Вожделение не шевельнулось в нем. Для чувственного влечения требовалась более ограниченная красота, лишенная такого неправдоподобного совершенства.
Сердце билось тяжелыми, гулкими ударами и вдруг так резко и больно сжалось, как будто смерть приблизилась и коснулась его волос. Он с трудом перевел дыхание. Тело его покрылось потом, руки и ноги заледенели. Непот что-то говорил ему, – он ничего не понял. Словно оглох. И потерял способность соображать.
Восхищенный ропот следовал за двумя красавицами, как скрежет гальки за волной, отхлынувшей в море. Катуллу нестерпимо захотелось продлить терзающее его наслаждение. Он бросился вперед, но перед ним сомкнулся ряд несокрушимых римских спин, и никто даже не заметил его молчаливого буйства. Будто за милю вспыхнула белокурая тиара волос. Клодия простилась с Волумнией, улыбнулась сопровождавшим ее поклонникам и села в свою роскошную лектику[124], задрапированную виссоном[125]. Статные рабы разом подняли ее и легко понесли.
Забыв о Непоте, обо всем на свете, Катулл помчался к Аллию. В дверь он колотил ногами и руками и бешено рвал кольцо из бронзовой львиной пасти. Встревоженный раб, открыл с опаской, а узнав, приветливо поклонился.
– Где твой господин? – закричал Катулл. – Замолчи, подлая птица! (на ручную ворону, каркнувшую из клетки «сальве»[126]).
– Но господин в бальнеуме… – растерянно начал раб.
– Все равно!
– Я не могу отлучаться. Эй, кто там? Эвмен! Проводи друга нашего господина в бальнеум.
Лежа в горячей воде, Аллий отмокал после ночного пира. Это было прекрасное средство для восстановления сил. Исчезла тяжесть в затылке, тошнота и угнетенное состояние духа. По телу разливалась приятная, безмятежная сонливость.
Вбежав, Катулл рухнул на пол и обхватил Аллия за шею. Толстяк испуганно уставился на него. Катулл тяжело дышал, вода лилась через край бассейна на его щегольскую пенулу.
Наконец Аллий вымолвил:
– Что случилось, Гай? Откуда ты свалился?
– Не сердись! Прости мою бесцеремонность! Прости и помоги мне! – причитал Катулл.
– Ничего не понимаю… Что ты мелешь, дружок?
– Я не подозревал, что это может случиться со мной! И вот сегодня стрела Амура жестоко пронзила мое сердце…
Аллий осторожно высвободил шею из объятий Катулла, покрутил головой и опять вытаращил на него припухшие глаза. Постепенно его тучное тело стало колыхаться, и, закатившись приступом хохота, он повалился в воду.
Обессилев и еще издавая заключительные стонущие звуки, Аллий взглянул на Катулла. По бледному лбу веронца струйками стекал пот. Исступленный взгляд, стиснутые зубы, излом бровей, как на трагической маске, говорили об искреннем страдании. Он не замечал своей вымокшей одежды.
– Кликни-ка Эвмена, – сказал Аллий сердито.
Он приказал вошедшему рабу взять у Катулла одежду, высушить ее и принести холодного велитернского.
– Наливай, и приступим к делу, – сказал Аллий, когда раб подал вино. – Объясни толком, каким образом я могу тебе помочь?
– Клянусь Юпитером Капитолийским, я никогда не думал о какой-то невероятной, роковой страсти. Мне казалось, что все эти муки и вопли существуют только в трагедиях Еврипида. И вот страсть вонзилась мне во внутренности, как вертел. Чтобы увидеть возлюбленную еще раз, я готов пойти на убийство и поджог.
– Примерно то же ты нес, когда вздыхал о потаскушке Постумии.
– Нет, нет! – закричал Катулл. Он заметался по бальнеуму. Аллий посмотрел на его босые пятки, шлепающие по мокрому мрамору, но не улыбнулся.
– Ты и вправду не можешь без нее жить? – спросил он. – Кто же она?
И тут Катулл замялся. Ему стало стыдно своей несдержанности.
– Она патрицианка, первая красавица Рима… – бормотал веронец.
Аллий продолжал глядеть вопросительно: мало ли какую патрицианку Катулл считает первой красавицей?
Катулл сел на скамью и виновато, но с надеждой сказал:
– О Луций, золотой, милый, добрый друг… Только ты можешь познакомить бедного транспаданца с божественной Клодией, женой Метелла Целера…
– Что?! – Аллий уронил чашу с вином.
Катулл сидел, сжав голову руками, и глядел исподлобья, пока Аллий выбирался из воды, розовой от пролитого вина.
Молчание длилось. Они сидели рядом: поджарый, взлохмаченный Катулл и толстяк Аллий, красноватый, с большим животом и мясистыми плечами.
– Я многое мог бы тебе рассказать про жену Целера, – начал Аллий, – но вижу, что это совершенно бесполезно и еще больше тебя расстроит. Ты думаешь, будто познакомиться с Клодией можно лишь при помощи аристократических связей? Ты ошибаешься. К ней не без успеха может подойти и… Ну, хорошо, я умолкаю, не бросай на меня свирепых взглядов. Клодия, так Клодия. Тем более что она ослепительно красива и весьма неглупа. Раз ты просишь, я сведу тебя с ней.
– Когда? – спросил Катулл и поцеловал Аллия в мокрое плечо.
– Нечего подлизываться, я и так тебе помогу. За несколько дней до июньских календ[127] будет праздник в доме сенатора Вариния. Палатинская знать соберется к нему. Я думаю, там мы найдем и жену Целера.
– Ты исцеляешь меня! – радостно закричал Катулл, внезапно помрачнев, он спросил: – Как ты находишь, я не слишком уродлив? Есть у меня хоть малейшая надежда понравиться?
Аллию надоело утешать Катулла. Весело подмигнув, он принялся разглагольствовать:
– Нельзя сказать, что ты красавец. Однако тебе не откажешь в привлекательности. На лице у тебя нет прыщей, оспин, гнойных язв и шрамов – это уже хорошо. У тебя живые и блестящие, как у обезьяны, глаза. По их выражению можно заключить, что ты не дурак, а также, что ты ненасытен и развращен. У тебя наглая улыбка и оскал зубов, как у кусачей собаки. Все это обычно нравится женщинам. Что касается фигуры, то, конечно, ты не очень похож на статую Мирона или Лисиппа[128]… Впрочем, ты довольно строен, хотя и несколько суховат. Но это не должно тебе повредить, потому что всякому известно: хороший петух всегда тощ.
– О боги, – простонал Катулл, – за что вы послали мне в друзья такого бессердечного человека!
III
В назначенный день они отправились к дому сенатора Вариния. Обширный особняк находился у подножия Палатинского холма. Напротив сияли белизной храмы и базилики Форума.
Сенатор Публий Вариний, седой, но еще крепкий мужчина, стоял при входе с женой и двумя старшими сыновьями. Родственников и друзей он радостно обнимал, с высокопоставленными гостями обменивался рукопожатием, остальных – приветствовал поднятой рукой.
На круглой площадке, окруженной миртами и кустами роз, бронзовая нимфа обольщала дельфина, который орошал ее зеленое лицо изогнутыми чистыми струйками. Позади фонтана музыканты наигрывали на кифарах и флейтах неназойливые мелодии. Мальчики, загримированные под мифического Ганимеда[129], разносили сладости.
Катулл и Аллий остановились, разглядывая гостей. Одетые в латиклавы с пурпурной полосой, в расшитые сирийские ткани и полупрозрачный шелк-серикум, блистая драгоценностями и благоухая восточными ароматами, нобили и матроны медленно прохаживались по дорожкам сада.
– Ну, гляди, где тут твоя Цирцея[130]… – сказал Аллий.
Катулл взволнованно озирался, но Клодии нигде не было видно.
– Давай-ка я покажу тебе кое-кого… – предложил Аллий. – Ты ведь впервые попал в такое сборище знати. Вот, например, рыжий и противный лицом Фавст Сулла, сын незабвенного кровопийцы. Видишь, как он радостно скалит зубы? Фавст счастливый жених, ему обещана дочь самого Помпея. А вот и она в паре со своей распутной сестрицей. Что сделаешь, мой милый, потомство тиранов стремится объединить наследственные качества грабителей и убийц…
Оживленно беседуя, вошли двое сенаторов: один среднего роста, густобровый и бледный, с острым подбородком и запавшими щеками, другой – высокий, красивый, нарумяненный и напудренный, по виду несколько старше своего собеседника.
– О, достойнейшие мужи! Decora et ornamenta saeculi sui![131] – воскликнул Аллий. – Это Варрон и Гортензий! Варрон хмур от ненависти к триумвирам и бледен от ночных бдений, во время которых он пишет философские и агрономические трактаты, исторические анналы, речи, памфлеты, трагедии, комедии, поэмы, элегии… Ну, что вообще можно еще писать? А Гортензий, бывший когда-то соперником Цицерона, теперь малость скис, растерял свою славу и политические позиции. Зато он на склоне лет стал увлекаться радостями жизни – составляет кулинарные рецепты, покупает девочек и сочиняет легкомысленные стихи.
Тем временем Варрон отошел к группе гостей. Аллий схватил Катулла за край тоги и поспешил представить его Гортензию.
– Очень рад, – улыбаясь, говорил знаменитый оратор, – мне нравится твоя непосредственность, любезный Катулл. Не выношу напыщенных моралистов в поэзии. Живем один раз; после смерти – ничто, а богов не интересует жалкая суета людей, как учит Эпикур. Я тоже не чужд поэтических занятий именно вашего «александрийского» толка. Как-нибудь с удовольствием приду в собрание одаренной молодежи. Теперь у меня много последователей, желающих перенять не только приемы красноречия, но и мой опыт в разведении павлинов. Что ты скажешь об этом, Аллий? Надеюсь, ты не считаешь мое увлечение ничтожным?
– Как ты мог подумать только о подобной дерзости с моей стороны! – воскликнул Аллий. – Все, что увлекает великого Гортензия Гортала – блестящие риторические обороты или созерцание сказочных индийских птиц, – всегда значительно и изящно.
– Благодарю, милый Торкват. Я оставляю вас, юноши. Кстати, вот и еще один ваш собрат по кружку…
К Катуллу и Аллию подошел Гай Меммий с лавровым венком на голове.
– Что случилось? Почему ты такой надутый и в венке? – удивился Аллий; он хитро сощурил глаза, предчувствуя нечто забавное. В ответ Меммий недовольно пожал плечами.
– Дядя умолил меня написать дифирамб[132] для Вариния, – сказал он. – Я и сочинил сдуру длиннейшее славословие в подражание Ариону[133]. Старики пришли в восторг и нацепили на меня этот проклятый венок. Да еще забота: сейчас явится толстуха Фульвия с тощей Мунацией и красоткой Клодией… Я обещал их сопровождать до начала пира.
Аллий хихикал, но Катуллу было не до смеха. Услышав, что скоро увидит поразившую его воображение красавицу, веронец побледнел и стал беспокойно оправлять складки своей тоги. Он показывал Аллию глазами, чтобы тот расспросил о Клодии, но Аллий слишком увлекся сплетнями. Заметив наконец гримасы Катулла, он обратился к Меммию без всяких уловок и предисловий:
– Веди сюда Фульвию и матрон, что придут с нею. Я хочу познакомить с Клодией нашего Катулла. Он увидел ее неделю назад и страстно влюбился.
Катулл вспыхнул, но Меммий не выразил ни удивления, ни иронии.
– Хорошо, сейчас приведу, – только и сказал он.
IV
Плавную музыку кифаредов перебили звонкие удары кимвал. Ворвались мимы и танцовщицы, одетые сатирами, силенами и вакханками. Кривляясь и высоко вскидывая ноги, они закружились вокруг фонтана. Гости, успевшие приложиться к фалернскому, со смехом глядели на их непристойные ужимки. Представление «Шествие Вакха» длилось довольно долго и исчезло так же стремительно, как и началось.
Поглядывая на смуглых девушек, танцевавших томный восточный танец, гости лакомились фруктами, привезенными из Африки, и обсуждали скандальные новости Форума.
Катулл, словно издалека, слышал вокруг себя манерные интонации причудливо переплетавшихся женских и мужских голосов. Еще дальше раздавалось глухое постукиванье бубна. Эти звуки доносились сквозь охватившее его оцепенение, и то, что должно было произойти с минуты на минуту, представлялось ему несбыточным.
– А, вот они идут… – произнес Аллий.
Катулл обернулся и увидел Меммия рядом с Фульвией в бледно-лиловом пеплуме и Мунацией в пурпурном паллии. Справа от них плыло видение белоснежного невесомого облака, освещенного лучом солнца, – такой показалась Катуллу Клодия.
С приветственным восклицанием Аллий поспешил им навстречу. Сдерживая лихорадочную дрожь и растянув губы в улыбке, Катулл шагнул в том же направлении. Матроны приблизились. Аллий горстями разбрасывал шутки и похвалы. «Вот наш Катулл, шалуньи… Помните его? То-то. Теперь и Клодия будет его знать. Чего же ты молчишь, Гай? Скажи что-нибудь жене сенатора Целера, да не опускай голову так низко, а то еще упадешь…» – веселье круглолицего Аллия было неисчерпаемо.
– Ты не даешь Катуллу слова сказать, – насмешливо перебила толстяка Клодия.
Веронец вдруг заговорил торжественно и несколько невпопад:
– Смертному невозможно не преклоняться перед твоей красотой. Кажется, будто видишь Венеру, выходящую из пены волн на золотой песок Амафунта[134]… – Он старался быть возможно любезным и предпочел выражаться в приторно-вязком тоне.