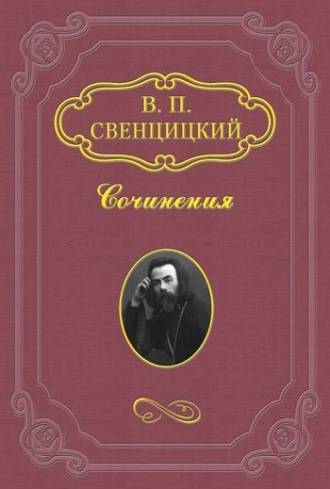
Протоиерей Валентин Свенцицкий
Война и Церковь
III
Война – великое бедствие.
И все доказывающие невозможность для христиан участвовать в войне любят говорить об её ужасах.
Выходит так:
Оправдывающие войну не понимают, как она ужасна, – если бы понимали, тогда бы не оправдывали. И всячески силятся разбудить «чёрствое сердце» рассказами о насилиях, жестокостях и «море человеческой крови»…
Трудно измерять страдания человеческие. И право, я не берусь решать, кому больнее «ужасы войны» – Гаршину, идущему на войну «убивать»[2], или какому-нибудь сектанту, бросающему винтовку и отказывающемуся от воинской повинности «по религиозным убеждениям».
Но во всяком случае надо установить твёрдо:
– Принципиальный вопрос о допустимости или недопустимости войны для христианской совести не стоит ни в какой связи с различием в оценке «ужасов». Ужасы эти признают все – значит, и распространяться о них нечего.
Ведь если война допустима, то вовсе не потому, что она причиняет «одно удовольствие». И если недопустима, то вовсе не потому, что люди видят, до какой степени она ужасна.
Вопрос о войне решается совсем в другой плоскости.
IV
Основная ошибка отрицающих войну заключается в том, что они считают равнозначащими два совершенно неодинаковых слова:
Война и убийство.
Подставляя вместо слова «война» якобы то же самое слово «убийство», по точному слову Евангелия, объявляют всякую войну грехом, ибо убийство грех.
Но надо вдуматься, почему убийство грех. И тогда станет ясно, что «убийство» и «война» далеко не одно и то же.
Заповедь «не убий» дана в Ветхом Завете. И рядом с этой заповедью в том же Ветхом Завете перечисляется великое множество преступлений, за которые полагается «смертная казнь»! Совершенно ясно, что под убийством, запрещённым Богом, разумелось такое убийство, которое было выражением злой воли человека – его «нелюбви» к ближнему. Христос, расширив понятие «ближнего», включив в него и «врагов», естественно, расширил и содержание заповеди «не убий». Но, однако, расширил всё же на основе принципа любви. Убийство и с христианской точки зрения осталось грехом исключительно как нарушение всеобъемлющей заповеди о любви к ближним.
В громадном большинстве случаев убийство действительно является нарушением заповеди о любви, и потому мы привыкли обобщать эту заповедь настолько, что она получила категорический характер. Мы говорим: «Всякое убийство грех».
Но если мы делаем ошибку в отношении содержания заповеди «не убий», когда придаём ей столь безусловный характер, то тем более усугубляем эту ошибку, когда включаем в рамки этой заповеди и войну, т. е. понятие, существенно отличное от понятия «убийства». В убийстве всегда предполагается цель: «уничтожение человеческой личности».
На войне целью является победа, а уничтожение жизни далеко не всегда обязательное средство для достижения этой цели.
Например, если врагу предлагают сдаться на капитуляцию, он соглашается на предъявленные требования и сдаётся – «убийства» не произойдёт, потому что «победа» будет уже достигнута.
Отсюда ясно, что в войне, как в действии, не ставящем себе целью именно убийство человека, вопрос об этом убийстве должен быть перенесён с абсолютной почвы на относительную. Если «убийство» грех, потому что нарушает заповедь о любви, то тем более только та война грех, которая нарушает этот высший принцип любви. Другими словами: не всякая война грех, а лишь та война, которая преследует злую цель, ибо моральное значение войны определяется тем, во имя чего стремятся к победе.
V
Второе заблуждение, тесно связанное с первым, заключается в том, что войну противопоставляют «любви к врагам», упуская из виду, что иногда война может быть неизбежным и единственно возможным проявлением деятельной любви.
Этот вопрос классически решён Владимиром Соловьёвым в «Оправдании добра».
Прочтите следующие строки:
«Смысл войны не исчерпывается её отрицательным определением как зла и бедствия; в ней есть и нечто положительное – не в том смысле, чтобы она была сама по себе нормальна, а лишь в том, что она бывает реально необходимою при данных условиях. …Например, хотя всякий согласится, что выбрасывать детей из окошка на мостовую есть само по себе дело безбожное, бесчеловечное и противоестественное, однако, если во время пожара не представляется другого средства извлечь несчастных младенцев из пылающего дома, то это ужасное дело становится не только позволительным, но и обязательным. Очевидно, правило бросать детей из окошка в крайних случаях не есть самостоятельный принцип наравне с нравственным принципом спасения погибающих; напротив, это последнее нравственное требование остаётся и здесь единственным побуждением действий; никакого отступления от нравственной нормы здесь нет, а есть только прямое её приложение способом хотя неправильным и опасным, но таким, однако, который, в силу реальной необходимости оказывается единственно возможным при данных условиях. Не зависит ли и война от такой необходимости, в силу которой этот ненормальный сам по себе способ действия становится позволительным и даже обязательным при известных обстоятельствах?»[3]
Другими словами, по Соловьёву, «опасный» способ действенно выразить свою любовь в данном случае заключался в выбрасывании младенцев на мостовую, с риском убить их. «Убийство» здесь не было «злою волей». В основе его лежала любовь, желание спасти. Точно так же, когда спасать из пламени приходится целый народ, может быть такое положение, при котором придётся употреблять меры, диктуемые любовью, но влекущие за собой неизбежные жертвы, без которых, при данных условиях, обойтись нельзя.
«Убивать людей на войне», точно так же как «выбрасывать детей на мостовую» (коль скоро иного способа спасения нет), – не является «самостоятельным принципом нравственности», напротив, и здесь требования любви остаются «единственным побуждением».
Таким образом, и здесь моральное содержание «злого убийства» и войны во имя спасения ближних совершенно различно. А потому заповедь «не убий» нельзя распространять и на войну, далеко не всегда противоречащую заповеди любви к врагам.







