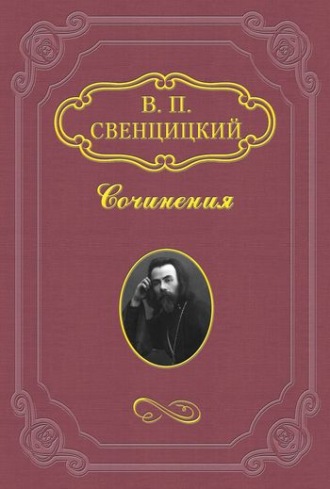
Протоиерей Валентин Свенцицкий
Религия «здравого смысла»
Христианин, верующий в Божественность Иисуса Христа, может как религиозную аксиому провозглашать заповедь о любви. Конечно, это не лишает его права углубляться своим разумом в сущность учения о любви, находить объективные данные для возведения любви на степень универсального закона, но, во всяком случае, требование это само по себе принимается им как абсолютное.
Толстой находится в ином положении. Для него Христос – один из величайших мудрецов, т. е., другими словами, человек, который, может быть, ошибался менее других, но который всё же мог ошибаться. Толстой не вправе без всякой критической проверки, догматически провозглашать это учение совпадающим с требованиями Божества. Толстой должен оправдать свой выбор. Он должен дать отчёт, почему остановился на Иисусе, а не на Конфуции или Магомете. Между тем никаких объективно-обязательных данных для этого выбора мы у Толстого не находим. Дело в конце концов сводится к личному вкусу. Толстой находит, что христианство – единственное учение, которое может спасти человека от отчаяния. «Я понял, – говорит он, – что что бы я ни делал, я неизбежно погибну бессмысленною смертью со всем окружающим меня, если я не буду исполнять воли Отца, и что только в исполнении её – единственная возможность спасения». Христианское учение по Толстому – единственное учение, спасающее от страха смерти; непобеждённый же страх смерти вконец губит всякую жизнь. Отсюда как неизбежность – принять учение Христа. Но ведь существуют люди, которые не принимают христианского учения и всё-таки в отчаяние не приходят. Толстому выход из отчаяния даёт христианство, а какому-нибудь социал-демократу – материалистическая доктрина. Если единственный критерий истинности – субъективное чувство спасения, тогда одинаково истинными должны быть признаны совершенно противоположные учения – христианство и материализм. Но допустим даже, что единственное учение, которое могло бы дать жизни какой-либо смысл, – это учение, которое принёс в мир мудрец Иисус. Значило ли бы это, что я должен принять его? Разве я не мог бы считать какой бы то ни было смысл у жизни пустой иллюзией? Пусть учение Иисуса осмысливает мне моё существование, существование всякой жизни вообще, но кто мне порукой, что жизнь на самом деле не пустая, ни для кого ненужная комедия? Я погибну, не приняв учение это, всё для меня погрузится в тяжёлый мрак подземного склепа; и пусть. Нет у жизни никакого смысла, не хочу я никакого спасения, потому что сладкий обман, что будто бы у жизни есть какой-то смысл, обман, который, быть может, действительно в силах был создать величайший из мудрецов, но который я не принимаю. На каком же основании, объективном основании, может требовать Толстой признания за учением Иисуса божественной достоверности? А ведь он требует того, на что может посягать лишь самая слепая вера; он требует, чтобы мы признали себя «орудием высшей Воли, которая через нас творит своё нужное Ей дело», чтобы мы признали себя посланными в мир «Высшим Существом, для цели, которую мы никогда не узнаем». Мы не узнаем её, мы не знаем, зачем нас послала Высшая Сила в мир, и всё-таки почему-то должны верить, что есть цель и смысл жизни.
Теперь перейдём к рассмотрению морали Толстого по существу.
Я уже говорил, что общие религиозные предпосылки, которые стоят за этой моралью, крайне важны, так как они придают тот или иной характер формальным принципам этики Толстого. Если в центре её лежит «твори волю Божию», то, очевидно, громадное значение имеет то, как представлять себе этого Бога. Мы уже рассмотрели учение Толстого о Боге. Вот и посмотрим теперь, к чему в конце концов при таком понимании Божества сводится и его мораль. Бог есть универсальное стремление к благу. Творить волю Отца – значит являться орудием этого универсального стремления. Но мы уже видели, что стремление есть лишь формальный признак и в понятие «благо» можно вкладывать самое разнообразное содержание; и потому, даже в случае самого искреннего желания исполнять волю Божию, каждый человек стал бы служить тому, что благом считает он сам. Но и здесь опять-таки возникает недоумение общего теоретического свойства: если в человеке заключена частица Божества, т. е. это универсальное стремление к благу, а истинное личное благо может быть достигнуто только служением благу общему, то, спрашивается, почему не все люди стремятся к этому общему благу? Очевидно, в человеке есть какая-то сила, которая сильнее этого божественного универсального стремления к благу, т. е. сила, которая сильнее Божества.







