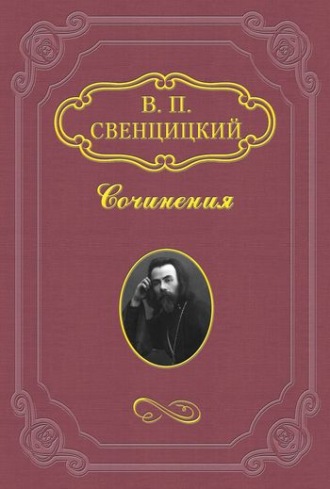
Протоиерей Валентин Свенцицкий
Религия «здравого смысла»
Человек, принявший толстовское учение, беспомощно должен остановиться перед всеми этими неизбежными вопросами сознания. Какой жалкой и ненужной покажется ему эта религиозная разумность, коль скоро она не в силах дать ответ на все наиболее центральные религиозные вопросы! Может ли посягать толстовское христианство на какую-нибудь историческую роль в будущем, если оно даже и не пытается утолить ту жажду, которая росла в человечестве более тысячи лет? Не только о будущем не может мечтать такое христианство, но и прошлое его должно вызвать сплошное недоумение. Каким образом учение, не воспринявшее в себя ни одного из кардинальных запросов человеческого духа (если христианство первых веков было таким, как его представляет Толстой), могло покорить мир?
Но может быть, скажут: «Все ваши вопросы не нужны и не важны. Толстой не решал их, потому что они перед ним и не вставали». Но посмотрим тогда, как решает Толстой вопросы, признанные им вполне законными.
Запутанное и разбросанное учение Толстого, схематично говоря, делится на две половины: учение о Боге и учение о жизни. Каждая из этих частей вызывает в мыслящем существе по одному основному вопросу. Посмотрим, как же Толстой отвечает на эти вопросы. Первый основной вопрос, касающийся существа Бога, Толстой формулирует так: «Сознавая в своём отдельном теле духовное и нераздельное существо Бога и видя присутствие того же Бога во всём живом, человек не может не спрашивать себя: для чего Бог, существо духовное, единое и нераздельное, заключил себя в отдельные тела существ и в тело отдельного человека? Для чего Существо духовное и единое как бы разделилось, само в себе? Для чего Божественная Сущность заключена в условия отдельности и телесности? Для чего Бессмертное заключено в смертное, связано с ним?»
Вот какой знаменательный ответ на эти вопросы даёт «разумная» религия Толстого: «И ответ может быть только один, – говорит Толстой, – есть высшая воля, цели которой недоступны человеку».
Другой вопрос, касающийся учения о жизни, а именно вопрос об её смысле, решается Толстым (или, вернее, не решается им) таким образом. Зачем я послан в мир? Я этого не знаю, знаю я только одно, доступное моему сознанию, что должен творить волю Божию. Это приведёт к наибольшему благу, доступному человеку. «Знать, зачем мы живём, разуму человеческому не дано, это знает за нас высшая Воля, нас пославшая».
Таким образом, на оба вопроса, вполне законно, с точки зрения самого Толстого, поставленные, он не только не даёт решительно никакого ответа, но считает, что дать эти ответы принципиально невозможно для человеческого разума.
Перейдём теперь к рассмотрению того, что Толстой всё-таки так или иначе утверждает. Здесь прежде всего необходимо отметить следующую характерную черту: абсолютно не желая вдуматься глубже в те религиозные идеи, которые с первого взгляда противоречат здравому смыслу, отбрасывая их без всякой критики за одно это несогласие с обычным сознанием, Толстой в то же время делает такие утверждения, которые нисколько не менее противоречат этому здравому смыслу и который он, казалось бы, в силу этого должен был отвергнуть. Так, очевидной нелепостью Толстой считает христианское учение о троичности лиц Божества, единого по существу. Ему кажется абсурдом, не требующим опровержения, что никогда три не могут быть одним. Но что, с точки зрения «здравого смысла», представляет из себя толстовское учение о Боге? Бог един по существу, но с непонятными для человеческого разума целями разделился сам в себе, оставаясь по-прежнему единым, и однако это разделение на Бога, вне человека лежащего и в душе человека заключённого, утверждается им как религиозная истина. Почему же три лица (или, точнее, ипостаси) не могут быть едиными по существу, а разделившееся Божество может оставаться единым? Очевидно, с точки зрения здравого смысла, уж если считать за нелепость, то и тот и другой случай в одинаковой мере.
Вообще положительные построения Толстого, простые и разумные с внешней стороны, при более внимательном рассмотрении оказываются чем-то гораздо более запутанным и противоречивым, чем то учение, которому Толстой себя противопоставляет. Опрощенство Толстого в сфере идейной, религиозно-философской, которое он производит с настойчивостью, доходящей до упрямства, опрощенство это в конечном счёте создаёт лишь непреоборимые затруднения. Ярко сказалось это в учении Толстого о Боге. Как будто бы говоря нечто чрезвычайно ясное и доступное, Толстой определяет Бога как универсальное стремление к благу. Спрашивается, можно ли считать определением по существу стремление к чему бы то ни было? Не говоря уже о полной неопределённости понятия стремления, в лучшем случае это могло бы рассматриваться как некоторое свойство абсолютного начала, ибо стремление само по себе должно из чего-нибудь происходить и на что-либо обращаться. Далее: если в каждом человеке заключено Божество, т. е. стремление к благу, то, очевидно, благо должно было быть понимаемо всеми одинаково. Правда, Толстой говорит, что истинный человек заслоняется часто неистинным и что если бы все люди слушались в себе только истинного человека, то и блага бы все желали одного. Но ведь это лишь голословное утверждение, совершенно не основанное на факте. Из каких же иных общих религиозных основ Толстой делает такое заключение, Толстой, отбросивший всякую метафизику?







