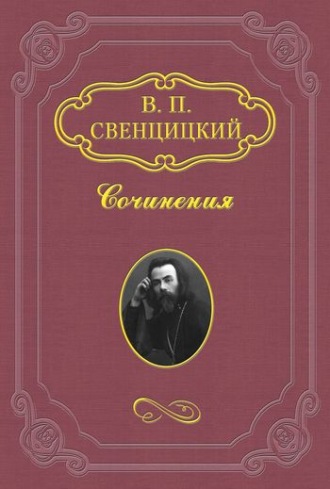
Протоиерей Валентин Свенцицкий
Поэт голгофского христианства (Николай Клюев)
Понимание искупления как творческого усилия всей земли и мирового процесса – как Голгофы – ведёт к двум основным выводам:
Новому учению о всеобщей ответственности.
Новому учению о будущей жизни.
«Каждый из нас за всех виноват» (мысль Достоевского) – это лишь робкий намёк на правду.
Голгофское понимание жизни раскрывает больше: не за всех виноват, а во всём виноват[3]. Каждое позорное пятно на совести человечества – позорное пятно и на моей совести. Каждый постыдный поступок мой – постыден для всей земли. Если «освобождение» общее – «искупление» общее, то и грех и преступление – общее дело[4].
Для голгофского сознания нет чужих грехов, чужих страданий. Я – убийца, я – растлитель, я – осквернил светлые ризы Божии. Но я же плачу кровавыми слезами раскаяния, я – свершаю великий подвиг любви, я – вхожу на костёр за Правду, я – приношу свою агнчую кровь во искупление опозорённой земли[5].
Отныне уже нельзя наслаждаться своей «праведностью». Как бы ни был я «чист» – руки мои в крови, как бы ни был я «целомудрен» – это я втаптываю в грязь женщину в позорных домах, как бы ни был я «кроток» – это я покрыл землю тюрьмами и кандалами. И по осквернённой, окровавленной земле – я же иду с крестом в венце терновом, во имя освобождения.
В «песнях» Николая Клюева раскрывается с потрясающей глубиной этот голгофский путь земли. Поэту путём созерцания даётся то, что религиозному сознанию даётся умозрением.
Но ещё ближе для него грядущее.
То, что я назвал «будущей жизнью».
Здесь особая новизна его и особая сила, которую – с сознанием всей ответственности этого слова – можно назвать пророческой. Николай Клюев как бы живёт уже этой новой жизнью, а не только «предчувствует» её, не только «догадывается» о ней.
Если бы в доисторические времена, когда зарождалась на земле жизнь, можно было бы рассказать «клеточке», что из неё создастся человек и вся современная жизнь, – всё это представилось бы ей, как сплошное безумие.







