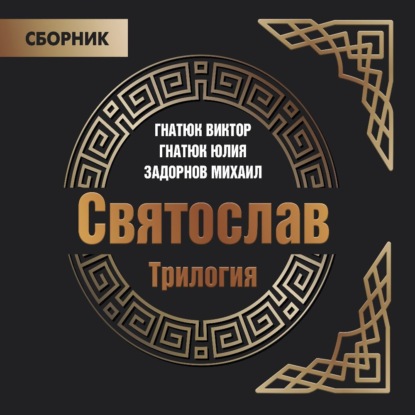- Рейтинг Литрес:4.5
- Рейтинг Livelib:4
Полная версия:
Юлия Валерьевна Гнатюк Перуновы дети. Деревянная книга
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Валентин Гнатюк, Юлия Гнатюк
Перуновы дети. Деревянная книга
© Гнатюк, В.С., Гнатюк, Ю.В.
© ООО «Издательство АСТ»
Пролог
Лета 1676 от Р.Х. Харьковщина
Полковник чувствовал себя уставшим. И эти сожженные книги… Они так и продолжали стоять перед глазами. В жилах полковника текло много разных кровей, но более всего от вольных донских казаков и гордых польских шляхтичей. Как человек весьма образованный, в глубине души он сокрушался гибели редкостных вещей. Огню все одно, что глодать, книги или поленья, а каким украшением книжного собрания могли стать деревянные дощечки!
Солнце уже стало изрядно припекать, когда Донец-Захаржевский вместе с полковым писарем и двумя казаками въехал на широкий двор городской управы. Следом вкатилась телега, которой правил пожилой хитроватый казак Евлампий с пышной окладистой бородой.
Сам харьковский воевода Ерофей Захарович Молодецкий, невысокого роста, плотный и осанистый, стоя на заднем крыльце, распекал за что-то караульного пристава.
Увидев вьезжающих, воевода, пригрозив приставу в другой раз отправить самого за караул, отпустил его коротким повелительным жестом. Пристав мигом исчез с глаз долой.
Воевода спустился с крыльца навстречу Захаржевскому, с которым они были давние приятели.
– Рад, рад видеть тебя, Григорий Михайлович!
– Здравствуй, Ерофей Захарович! – отвечал Захаржевский, спешившись и отдав казаку поводья. – Вот приехал у тебя бумаги фуражные подписать да распоряжения кой-какие. Прошка! Подай его милости наши хартии!
Писарь с почтительным поклоном передал подготовленные бумаги.
– Ну-ну, – пробормотал воевода, – поглядим. Отнеси покуда мне на стол, нехай мой старший писарь проглядит, а я потом подпишу.
Прохор пошел в здание управы.
– А это что? – спросил воевода, кивнув на телегу, из которой казаки выгружали увесистый бочонок.
– Гостинец, – улыбнулся Захаржевский. – Не побрезгуй, Ерофей Захарыч, прими. Это крымское вино.
Воевода ласково погрозил пальцем:
– Ох, чую, Григорий Михайлович, ежели б не оказия, так и не заехал бы к старому другу! Ну ладно, ладно, – успокаивающе похлопал он Захаржевского по плечу. – Слыхал о твоих заботах, имение приобрел, дом новый строишь…
– Твоя правда, Ерофей Захарыч, – развел руками Захаржевский, – столько хлопот. Но уже дело вроде к концу движется, Бог даст, к осени въедем. Так что уважь, милости прошу на новоселье с супругой и детьми!
– Непременно, непременно. А сейчас пойдем, Григорий Михайлович, отобедаем да кваску выпьем холодненького, жара какая сегодня! – воевода, сняв фуражку, вытер платком вспотевшую лысину и шею.
– С удовольствием, – согласился Захаржевский, – с раннего утра в дороге, торопились, чтоб на торг поспеть.
Обедали в комнате, выходившей окнами на городскую площадь. Целовальник принес жирный малороссийский борщ с чесночными пампушками, гречневую кашу с телятиной и печеных угрей. На десерт – холодец из крыжовника, фрукты. Поставил водку в турецком серебряном кувшинчике и серебряные чарочки.
– Прошу без церемоний, у нас все по-простому, – пригласил воевода и велел прислужнику. – Принеси-ка, братец, нам еще того вина из бочки, что пан полковник прислали, отведаем!
– Слушь, Ваша ясновельможность!
– Давай выпьем, Григорий Михайлович, за нас, старых вояк. Славный был тогда поход на Крым, как мы турок с татарами били! А нынче уж не то, хлипкий народ пошел… Ну, со свиданьицем!
Выпив, крякнули и принялись за еду.
– Ерофей Захарович, – спросил Захаржевский, управившись с борщом, – я вижу, на площади срубы поставлены, и народ собирается, никак казнь намечена?
– Да, Указ Государев намедни получили по делу чернокнижников, – отвечал воевода, беря кусок угря.
– Припоминаю, – наморщил лоб Захаржевский, – года два тому тоже какого-то колдуна взяли?
– Это он самый и есть. Пока дознание вели, свидетелей опрашивали, три селения по сему делу привлечено было, около сотни человек. Потом дело Государю отправили. Теперь вот дождались Высочайшего Указа. Сгорит нынче колдун вместе с братом своим и книгами богомерзкими. Ох, грехи наши тяжкие! – вздохнул воевода, перекрестившись на висевшую в углу икону. – Раньше много их было, – продолжал он, наливая вина из резного деревянного ковша в чарочку, – я имею в виду, колдунов и ведьм всяких, в каждом селении водилось не менее чем по пяти человек. Да прежний наш самодержец, благочестивейший царь Алексей Михайлович, извел бесовское племя, ох и сгорело их сколько, доложу тебе! Нынче такие дела уже не часто встретишь, так что советую поглядеть. Доброе вино! – похвалил воевода и принялся за кашу.
– А этот, видно, весьма опасен?
– Еще как! Еретическими наговорами из волшебных книг людей портил и прельщал, к малым детям и больным в дом ходил и чинил над ними бесовские волхвования. За подобные дела уже дважды был бит плетьми и к нам в украинные земли на поселение сослан. Однако и тут от своих богомерзких дел не отрекся. Сельский поп с дьячком челобитную подали, да еще сродственники тех, кто чародейством испорчены были или померли. Когда сыск производили, на дальней заимке толченых трав несколько мешков взяли, узлы с пучками всякими и кореньями, а книг разных отреченных, почитай, целый воз! Так-то, дражайший Григорий Михайлович, это тебе не ваши полковые дела!
– Что же, колдун во всем сознался?
– Под пытками попробуй, не сознайся. Один, правда, покрепче оказался. Зато брат его, как только дьяк пятки поджарил, сразу про все рассказал. Да и свидетелей столько, и книги – признавайся, не признавайся, а еретичество налицо.
Шум на площади усилился и перешел в тревожное гудение.
– Видать, чернокнижников везут, – сказал, поднимаясь, воевода. Перекрестившись в святой угол, воевода с полковником надели головные уборы и пошли к выходу.
В это время со стороны двора донеслась громкая перебранка. Выйдя на заднее крыльцо, увидели приказного дьяка, который ругался с караульным приставом.
– А я реку, давай лошадь с телегой, да поживей, душа твоя нечестивая! Вишь, колдунов уже везут. Что ж мне, эдакую пропасть узлов окаянных на плечах прикажешь тащить к срубам, ирод ты великогрешный, а?
– Ну, нету телеги, с утра об этом думать надо было, а теперь все лошади и возы по делам разосланы.
– А я с утра не мог про сие думать по причине важных и спешных государственных дел! – желчно кричал дьяк, тряся козлиной бородкой.
– В кружечной ты свои дела справлял, думаешь, мне не ведомо? – зло отвечал пристав.
От этих слов дьяк взвился, как ужаленный, и заверещал еще громче, брызгая слюной.
Воевода поморщился, будто откусил пересоленный огурец.
– Ох, и мерзопакостный голос!
Захаржевскому вдруг ясно представилось, как этот тщедушный дьячок с вкрадчивым ядом в голосе подзадоривал узников: «Не помнишь, кого ворожбе обучал? Так сейчас, голубь ты мой сизый, поможем… Ну-ка, Федька, подсыпь горяченьких углей молодцу под пятки, может Господь память-то ему возвернет! Поболе сыпь, не жалей для спасения души грешной!»
– Голос и впрямь не серебро, – согласился полковник. – А пущай берет мой воз, – предложил он. – Евлампий все одно прохлаждается.
– Афанасий! – окликнул воевода. – Вот пан полковник дозволяют свой воз взять, а про твои грехи мы после потолкуем. – Митрофан, – обратился он к приставу, – неси ключи от амбара, открывай, да грузите все, живее!
Обрадованные пристав с дьяком поспешили к амбару, где под караулом в отдельной каморе хранились отобранные у чародеев вещи, травы и прочие доказательства их зловредной деятельности.
– Евлампий, подавай к амбару! Федор, Григорий, подсобите! – окликнул полковник казаков.
Под визгливые покрикивания дьяка казаки стали выносить из каморы скарб чернокнижников. Воевода с полковником тоже подошли к возу, на котором уже высилось несколько мешков с травами, а из широкого, связанного концами рядна торчали коренья.
– Все сразу не поместится, траву потом, следующим ходом, давай первым делом богомерзкие книги! – распоряжался дьяк.
Дюжий казак Григорий, подойдя, грохнул тяжелый полосатый чувал, старый, с проеденными мышами дырками. Гнилая завязка лопнула, и из прорехи высыпалось несколько деревянных дощечек с вырезанными на них не то буквами, не то знаками.
Захаржевский взял одну из дощечек, повертел, ковырнул ногтем облезшее покрытие.
– По всему, старинные доски, – обратился он к воеводе. – Дерево вон какое темное, лак почти стерся, кое-где шашель начинает бить… – Полковник потянул из разорвавшегося чувала вторую доску, но вместо одной вытащил целую связку дощечек, скрепленных с одной стороны железными кольцами. – Гляди, Ерофей Захарович, – удивился Захаржевский, беря связку, – и впрямь книга, только деревянная. Едва ли и сам чернокнижник мог ее прочесть, как думаешь? Я библиотеку давно собираю, книги люблю, но таких никогда не видал. Слыхивал только, что были когда-то деревянные книги, а вот в руках впервые подержать довелось…
Воевода вскользь взглянул на дощечки и только махнул рукой.
Казак принес еще охапку книг, высыпал их на толстый слой сена, устилавшего дно, и снова скрылся в проеме амбара.
Глаза Захаржевского обратились на большую книгу в красном сафьяновом переплете с полуистертой вязью золоченых букв. Сафьян был местами протерт насквозь, но углы, окантованные серебряными накладками тонкой чеканки, остались целы, и книга имела еще довольно приличный вид.
Захаржевский взял ее, раскрыл. Внутри на тонких пергаментных листах красными, частью, выцветшими чернилами, был выписан удивительным каллиграфом рукописный текст, заглавные буквицы которого переплетались с дивными растениями и птицами. С трудом полковнику удалось разобрать первые слова в сложной вязи заглавия: «Сказъ о Св…ве. ромъ…нязе кiевскомъ».
Что за «Св-ве»? Савве? Или святом Савле? Постой!»…нязе кiевском» – может быть «о Святославе, князе киевском»?
– Ерофей Захарович, Ваша милость! – доложил пристав. – Чернокнижников привезли!
– Заканчивайте скорей! – поторопил воевода. – Идемте, Григорий Михайлович.
– Да, да, сейчас, – отвечал Захаржевский, кладя книгу обратно. Мельком выхватил названия других книг, записанных, видимо, самим чернокнижником от руки неровными буквами: «Звездочтец», «Громовник», «Коледник», «Волховник». Уловив на себе пристальный взор Евлампия, спохватился, что слишком увлекся просмотром еретических книг, и поспешил вслед за воеводой.
Евлампий принялся плотнее укладывать мешки и связки. Наконец, дьяк уселся рядом на передок и приказал:
– Трогай!
Воз выехал со двора управы и, сопровождаемый казаками, направился к срубам.
Воевода, переговорив со стрелецким начальником, велел подать коней, и они с Захаржевским верхом поехали сквозь расступающуюся толпу к центру площади.
Стрельцы в своих красных кафтанах бердышами оттесняли слишком любопытных зевак, пытавшихся проскочить сквозь оцепление.
– Все готово, вашь Высокородие! – доложил стрелецкий сотник. – Можно начинать!
Воевода огляделся и, найдя, что все идет как надо, согласно кивнул.
Осужденные, доставленные под усиленным караулом на специальной телеге в железной клетке и закованные в цепи, сидели отрешенно, не глядя на теснящуюся вокруг толпу, словно не они являлись причиной предстоящего действа.
Клетку отворили, буквально выволокли оттуда братьев, потому что сами они идти уже не могли, и потащили к срубу. Палачи и их подручные помогли караульным втащить осужденных на помост и приковали с двух сторон к столбу на всеобщее обозрение.
Кто из братьев старше, теперь судить было трудно, оба представляли ужасное зрелище: одинаково измученные и изувеченные пытками, обросшие, в изодранных рубахах и портах на тощем теле. Оба, видимо, отличались прежде недюжинным здоровьем, если смогли вынести все пытки, не помереть и не сойти с ума, как это происходило со многими. В таком случае высшему начальству отписывалась бумага, что означенные люди удавились, отравились зельем, учинили над собой смертоубийство, либо просто «померли за караулом своею смертью».
Один из братьев был понур, с потухшими очами, и лишь стонал, когда его вывороченные в суставах руки и ноги крепко пригвождали к дереву.
Второй, что пониже ростом, окидывал площадь странным жутко горящим взором.
– Не гляди колдуну в глаза! – крикнул кто-то в толпе неподалеку, – положит заклятие, потом уже никто не снимет!
– Точно, в предсмертный час у него самая сила, ее демоны приумножают, так вокруг и вьются. Детей, детей прячьте!
Когда колдунов привязали к столбу, приказной дьяк с царской хартией и печатью на шнуре гордо взошел на помост, прокашлялся и стал громко читать своим высоким дребезжащим голосом:
– По Высочайшему Указу… Великого государя, царя, самодержца всея Великия и Малыя и Белыя Руси… Ввиду того, чтомногие незнающие люди в польских и украинных землях, забыв страх Божий и не памятуя смертнаго часу, и не чая за то себе вечные муки, держат отреченыя еретическия и гадательные книги, и письма, и заговоры, и коренья, и отравы, и ходят к колдунам и ворожеям, и на гадательных книгах костьми ворожат, и теми кореньями и отравы, и еретическими наговоры многих людей насмерть портят, и от тое их порчи люди мучатся разными болезнями и помирают, строжайше повелевается…
Дьяк сделал многозначительную паузу и строго посмотрел на стоявших впереди свидетелей, проходивших по делу о колдовстве.
– Повелевается, – продолжал он, –чтоб люди те впредь никаких богомерзких дел не держались и те б отреченные и еретические книги, и письма, и заговоры, и гадательныя книжки, и коренья, и отравы пожгли и к ведунам и ворожеям не ходили, и ведовства не держались, и людей не портили!
Притихшие было свидетели, услышав, что карательных мер к ним применять не будут, радостно зашевелились.
– Относительно же чернокнижников Тимошки и Софрошки Савиновых, – читал далее дьяк, добавив в голосе грозных нот, – которые от таких злых и богомерзких дел не отстали и Указ, воспрещающий бесчинства и чародейства, неоднократно нарушили, за то воеводе харьковскому Ерофею Захаровичу Молодецкому повелеваюдать сим злым людям и врагам Божиим отца духовного, сказать братьям Савиновым их вину в торговый день при многих людях и казнить смертью – сжечь в срубе с кореньем и травы безо всякия пощады, а домы их разорить до основания, чтобы впредь злыя их дела николи нигде не вспомянулись, а иным неповадно было наговоры читать и людей до смерти кореньем отравливать…Указ подписан… именем Великого самодержца Федора Алексеевича… Июля месяца, дня третьего, лета одна тысяча шестьсот семьдесят шестого от Рождества Христова…
Отец Иннокентий, назначенный духовником, уже поднимался на помост. Несмотря на жару, он был в полном облачении. Подойдя вначале к тому, что был выше ростом, стал говорить с ним. Захаржевский улавливал не все слова, он только видел бледное лицо приговоренного и глаза, полные смертной тоски, из которых, при обращении к нему священника, полились обильные слезы.
– Веруешь ли ты во Христа? – спросил, поднимая большой золотой крест, отец Иннокентий.
– Верую… – всхлипнул осужденный.
Священник снова спросил:
– Веруешь ли во Христа?
– Верую, отче! – с безысходной мольбой и отчаянием ответствовал тот.
И в третий раз вопросил духовник:
– Воистину ли веруешь?
– Воистину верую, отче!
– Слава тебе, Владыко, Христе Боже, человеколюбче, ибо примет смерть Софрон Савинов рабом твоим!
И, перекрестив широким знамением, духовник протянул крест для целования.
Как в предсмертной агонии дернулся осужденный навстречу, но почерневшие цепи, глухо звякнув, остановили порыв, и он, слегка коснувшись распятия губами, вновь обмяк и обреченно повис, понурив голову. Потом рванулся, задергался и стал истошно вопить:
– Люди добрые, за что? Невиновен я, православные, именем Христа и матушки нашей Богородицы лечил людей! У кого хошь спросите! Отпустите меня, а-а-а!
Женщины в толпе запричитали, завсхлипывали, истово крестясь.
– Он моему Митьке огневицу вылечил, – вполголоса со слезами на глазах сказала одна селянка другой.
– Цыть! – шикнула та. – Хочешь, чтоб и нас к еретичеству приписали? Молчи!
Отец Иннокентий между тем, тяжело отдуваясь, подошел ко второму еретику.
– Покайся, очисти душу перед кончиной! – сказал ему священник.
– Не в чем мне каяться, – ответствовал слабым, но твердым голосом осужденный, – не делал я людям зла…
– Перед Богом ответ держать будешь, подумай, не богохульствуй в свой смертный час. Гореть ведь будешь, окаянный, в вечной геенне огненной! – стал терять терпение духовник.
Возникла пауза.
Колдун поднял глаза, посмотрел в голубое небо, сощурился на жаркое солнце. Потом, как будто оттуда к нему пришла неведомая сила, расправил искалеченные плечи и заговорил окрепшим голосом:
– Перед честным народом, перед богом Всевидящим, перед небом этим синим и солнцем праведным, в сей смертный час, клянусь, что не творил зла ни людям, ни детям, ни скотам, а лечил их только во здравие! Да услышит меня Господь Всевышний и простит, и вы простите, люди добрые, ежели завинил в чем невольно…
– В глаза, в глаза не гляди! – вновь тревожно зашептал чей-то голос.
Отец Иннокентий поспешно осенил еретика знамением и приложил крест к его сухим губам. Резко повернувшись, чтобы идти, он вдруг почувствовал головокружение. Может, сказалась жара и плотный обед с водкой накануне, но в глазах потемнело, и священник, протянув руку вперед, покачнулся, подобно беспомощному слепцу.
Гул и ропот волной пробежали по толпе и замерли. В напряженной тишине стало слышно, как щебечут птицы, и шуршит на ветру солома у подножия сруба.
Быстрее всех опомнился дьяк, который имел немалый опыт в подобных делах и знал, что чародеи способны на всякие козни, особенно при стечении легковерного и неискушенного народа.
Метнувшись к отцу Иннокентию и поддержав его под локоть, дьяк рявкнул на оторопевших стрельцов:
– Чего столбами стоите, охальники? Не видите, оступился отец Иннокентий, подсобите, окаянные!
Двое стрельцов мигом влетели на сруб и бережно свели обмякшего духовника по деревянным ступеням.
Воевода тоже опомнился и махнул палачам:
– Поджигайте!
Смоляные факелы почти одновременно опустились в кипы соломы. Повалил густой белый дым, и тут же заполыхало яростно и жарко. Огонь, жадно поглощая сухую солому, перекинулся на щепу и дрова, облизывая их голодными языками пламени.
Дьяк подскочил к телеге Евлампия, стоявшей неподалеку.
– Живей! Давай в огонь скарб чернокнижников! – прикрикнул он на старого казака и, схватив мешок с травой, сам швырнул его в кострище и перекрестил ограждающим знамением.
Евлампий, ворча под нос, что не нанимался, дабы его лошадь пугали огнем и такими зрелищами, тоже стал таскать и бросать в огонь травы, книги и все прочее из телеги.
В несколько мгновений жар стал нестерпимым для прикованных к столбу еретиков, и воздух пронзили страшные душераздирающие вопли.
Люди на площади разом подались назад и закрестились еще истовее. Многие готовы были бежать прочь, но оцепление стрельцов сзади не позволяло никому покинуть площадь до конца казни. Всем следовало воочью убедиться в неотвратимости страшной кары за еретичество.
– За что? Спасите! А-а-а! – взывал один из чернокнижников.
– Прощай, брат! – кашляя и задыхаясь, хрипел второй. – Радуйся, конец нашим мукам пришел… Скорей бы… О-о-о! Люди, что ж вы творите?
Скоро их крики перешли в сплошной ужасающий вой.
Бабы заголосили, как полоумные. Крик казнимых как бы размножился, рассыпался по толпе женским и детским плачем.
Запах горящей человеческой плоти поплыл над площадью, и безумные стенания сжигаемых заживо скоро прекратились – они потеряли сознание, а может, уже умерли. Только площадь продолжала вопить, и к синему бездонному небу поднимался столб дыма и жирного пепла, вознося к Богу отданную ему жертву, жертву мерзкую и страшную – человеческую…
Когда сруб стал догорать, стрельцы сняли оцепление, и люди начали расходиться, делясь впечатлениями.
– Не жилец боле на этом свете отец Иннокентий, вот что я вам скажу, – уверенно говорил кто-то из мужиков.
– Да ему от жары дурно сделалось, – возразил второй.
– Не скажи! Это колдун порчу навел. А предсмертную порчу ничем снять нельзя, это тебе каждый скажет!
Скоро площадь опустела, люди, боязливо оглядываясь и крестясь, разошлись по торговым рядам, чтоб заняться тем, ради чего они приехали на торг: продать или купить товар.
Захаржевский вместе с воеводой вернулся в управу, забрал подписанные бумаги и отправился прикупить кое-что необходимое для нового дома.
Заночевать пришлось в Харькове, а на следующее утро полковник со своими спутниками выехал в имение. По объездной дороге им предстояло сделать около девяноста верст.
Проезжая мимо сгоревшего сруба, казаки перекрестились, с опаской глядя на еще дымящееся кострище.
За несколько часов хорошего хода почти добрались до места. Перед поворотом на Великий Бурлук казаки и писарь распрощались с Захаржевским и направились в расположение полка.
Донец-Захаржевский верхом на лошади ехал за телегой Евлампия. Дорога шла через лесок, и здесь было прохладнее. Скорее бы добраться, вымыться, надеть домашний халат и мягкие туфли вместо сапог… Полковник чувствовал себя уставшим. И эти сожженные книги… Они так и продолжали стоять перед глазами. В жилах полковника текло много разных кровей, но более всего от вольных донских казаков и гордых польских шляхтичей. Как человек весьма образованный, в глубине души он сокрушался гибели редкостных вещей. Огню все одно, что глодать: книги или поленья, а каким украшением книжного собрания могли бы стать деревянные дощечки! Других таких, вероятно, уже не сыщется, и что в них было написано, теперь никто и никогда не узнает. Та книга о Святославе, если он верно понял, какая же это ересь? Видно, дьяк не утруждал себя сверкой со списком отреченных книг. Отобрал все, что нашел, и сжег для верности. Может, и в тех деревянных книгах не было ереси, а вещь такая, что хоть сейчас на полку редчайших уник. Ах ты, напасть какая, жалко, жалко!..
Евлампий ехал впереди, время от времени оглядываясь, не упало ли что из покупок. Вот уже и прямая дорога, мощенная камнем, что ведет к самому имению, и свежевыкрашенная зеленая крыша особняка виднеется за молодыми липами.
Евлампий почему-то стал чаще оглядываться, а потом и вовсе остановился. Полковник подъехал.
– Случилось что?
Евлампий как-то странно замялся, слез с передка, обошел воз, как бы проверяя крепость веревок. Хитрые глаза его не глядели на полковника, а были опущены долу.
– Евлампий! – строже окликнул Захаржевский.
Старый казак тяжко вздохнул, запустил руку в сено и молча извлек из-под передка… красную сафьяновую книгу с серебряными уголками.
Это было настолько неожиданно и невероятно, что на лице Захаржевского пробежали, сменяясь одно на другое, все его чувства: удивление, радость, опасение, страх…
– Да ты что!.. Евлампий… Ты хочешь, чтоб нас обоих, как тех чернокнижников, в срубе пожгли? Ополоумел на старости лет?! – обретя дар речи, закричал Захаржевский.
Он продолжал кипеть и костерить Евлампия, не слушая его оправданий, а тот разводил руками, молитвенно прикладывал их к сердцу и хватался за голову:
– Простите великодушно, пан полковник, Ваша милость! Не приметил, как она в сено завалилась! На площади такая суета была, дьяк окаянный все бегал да орал: туда ему давай, сюда беги, – все памороки забил. Покидали скорей в огонь, я и поехал… Что теперь делать?
Полковник, наконец, перевел дух, опустил поднятую было в горячке плеть, пристально поглядел на Евлампия и почти спокойно спросил:
– Это все, или еще что затерялось в сене?
– Кажись того… еще две связки дощек… ну тех, из полосатого чувала… тоже в сене запутались…
Захаржевский тяжело вздохнул.
– Ладно, дьявольская твоя душа, сожжем их дома, в камине. Только, гляди мне, язык за зубами как мертвому держать, иначе сам знаешь!..
– Да я… Да чтоб мне на этом самом месте в самое пекло провалиться! Благодарствую, Григорий Михайлович, за великодушие ваше к старому дураку, за милость великую, никогда не забуду! Виноват, недоглядел, старый репей, ох, недоглядел! Простите, никак колдун чары напустил на ума помрачение… А, Ваша милость… благодарствую!
– Хватит! – оборвал его причитания Захаржевский. – Заквохтал, как курица на насесте. Поехали! – и, пришпорив лошадь, он поскакал вперед.
Евлампий, продолжая подобострастно кивать, влез на козлы.
– Н-но, пошла, Чубарушка! – крикнул он зычным голосом, и глаза его сверкнули никому не заметной искрой глубоко скрытого лукавого удовольствия.