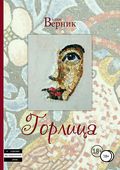Вадим Верник
Книга победителей
– В моей жизни юмор всегда был рядом. Своеобразный папин юмор окружал меня с детства – мы с мамой хохотали с утра до вечера. Он такое придумывал… У нас в семье вообще была особенная атмосфера, ничего не скрывалось, даже папины увлечения, восторженность, которую он испытывал по отношению к женщинам. Папа мог потихоньку прижать, обнять кого-то: «якая приятная женчина!» А я все видела, но папу никогда не выдавала, а то бы мама все неправильно поняла. Но кровать тряслась с утра до вечера, такая была страшная любовь… Он мне говорил: «Пойди, дочурка, поиграй у пясочек…» И я шла во двор и играла «в пясочек».
– А насколько чувство юмора помогало и помогает вам в жизни?
– Безусловно, помогало. «Если, дочурка, плюнут у спину, значить, идешь вперед». И я шла. Я как-то всегда опережала время – и в моде, и на экране. Это самая большая тайна в жизни – быть современным. Иногда встречаешься с человеком через 20 лет и понимаешь, что он задает одни и те же вопросы. Когда и где происходит эта остановка? Или вдруг талантливый в прошлом режиссер выпускает очередную картину, и думаешь: «Да не может быть, нет, это не он».
– А что вам помогает оставаться на плаву и не терять связь со временем?
– Это невозможно объяснить. Я как-то слышу время и четко понимаю, что мое, что не мое. И так было всегда. Я исчезала, когда «не мое». А потом опять что-то выбрасывало меня на свет – значит, снова «мое». Я точно знаю, например, что надену завтра. Готовых вещей, кстати, у меня почти нет.
– То есть вы все делаете на заказ?
– Да, многое придумываю, а иногда и шью сама. Летом я начала вышивать платье бисером. Уже отработано почти полтора килограмма бисера. Я представила себя в нем царицей. И оно получилось такое… современное, но при этом царское. Я просидела с ним почти все лето, но нужно еще дней 15, чтобы закончить.
– А вы уже знаете, где будете это платье «выгуливать»?
– Не знаю. Но это должно быть что-то эдакое, чтобы люди собрались понимающие и чтобы интересовались: где да откуда… А я им: «Да так, все сама. Вы знаете, все это очень просто».
– Хорошо, а в том, что касается правильного питания, вы доводите эту ситуацию, как многие, до абсурда?
– Перед интервью вот съела большую булку с маслом. Это моя любимая еда с детства. Если после обеда не выпью чаю с мягким хлебом с большим слоем масла, считайте, что не обедала.
– А как же холестерин?
– Понятия не имею. К тому же я выросла в голоде. В детстве прятала еду на черный день. Сегодня уже и не черный день, а страх там где-то глубоко сидит и иногда напоминает о себе.
– Знаю, что ваш любимый город Харьков. А появились другие любимые места на карте?
– Да. Я люблю Ленинград, то есть Петербург. Там прошла треть моей жизни, около 40 картин были сняты там. Еще Тбилиси, Киев, Рига, Одесса, Москва…
– Интересно, а почему Москва на последнем месте?
– Чтобы по-настоящему любить Москву, в ней надо родиться. Вот Шура Ширвиндт утром другу звонит: «Это говорит некто Ширвиндт». У меня этого «некто» в Москве нет. Тех, кто знал меня как Люську, дочь Марка Гавриловича и Елены Александровны, нет. А с актерами дружба вообще невозможна.
– Не поверю, что у вас никогда не было друзей-актеров.
– Конечно, были. Но как вдруг успех – цветы, аплодисменты, поклонники, – пиши пропало. У меня зависти к таланту не было никогда. Если я вижу интересную женщину, талантливого человека, думаю: как прекрасна жизнь, какие красивые люди есть…
– Вы восхищались Земфирой.
– Да, если бы песню «Мне приснилось небо Лондона» крутили с утра до вечера по радио… О, было бы замечательно! Эта песня для меня круче, чем Yesterday «Битлз». Она и наша, и не наша, родная и необычная…
– Людмила Марковна, кажется, с годами вы кажется становитесь все более сентиментальной.
– Я бы сказала, появляются поздние признаки мудрости, часто восторженной. Я чувствую, что живу, когда, например, иду на радио «Культура» и читаю в эфире свою книгу «Мое взрослое детство». Да даже то платье, которое нужно пораньше закончить, чтобы успеть поразить кого-то, – разве это не жизнь? Мозгами я понимаю, сколько мне лет. И прекрасно понимаю, что не это мое богатство. Так что, сложить крылья? Не сумею. Внутри меня винт, который не дает притормозить. Вот сразу я не могу повторить танец, который показывает балетмейстер, но ночью в своем воображении я репетирую его, танцую. А на следующий день танец уже и созрел. Голова – все в ней. А если она начинает подводить, – привет. Именно так протекает вся моя жизнь: танцы, музыка, одежда, разговоры с людьми, желание быть на виду или уходить в тень…
– То есть жизнь продолжается!
– Жизнь продолжается. В общих чертах.
Алла Демидова
«Я всегда была во внутренней эмиграции»
Лето 1992 года. Так совпало: с Аллой ДЕМИДОВОЙ мы второй год подряд встречаемся на отдыхе, в ялтинском Доме творчества «Актер». Вспоминая наши прошлогодние беседы, я сожалел, что не записывал их на диктофон. И теперь надеялся вновь разговорить легендарную актрису. «Давайте попробуем, – сказала Алла Сергеевна. – Только пойдемте в горы, там спокойнее». И вот по дороге, вьющейся серпантином, мы взбираемся на высоту, как указывает табличка, 800 метров над уровнем моря. Здесь тихо и нехожено. Мы садимся в тени на выступ, а внизу плещется Ялта.
Демидова охотно вспоминала, как здесь, в уникальном микроклимате «Актера» и Дома творчества литераторов, она общалась с Товстоноговым, Шкловским, подружилась с Вениамином Кавериным. «Каверин обожал пешие прогулки. У нас был излюбленный маршрут: доехать до Никитского ботанического сада и оттуда, по камушкам, до Гурзуфа, и, представьте, Каверин меня обгонял. Наши прогулки продолжались и зимой, когда я сняла дачу в Переделкине, напротив каверинского дома».
Актрисе Демидовой подвластны любые роли, любые эпохи. Незадолго до той поездки в Ялту она закончила работу над ролью Электры: «Трагедию Софокла поставил в Греции с нашими актерами Юрий Любимов. Почему до сих пор волнует этот миф? Электра, подобно древнегреческим статуям, – сама грация, она ощущает полноту жизни и спокойствие. Она в ладу с собой и с богами (то есть с Природой). У нее абсолютная вера в Бога, в Космос… Мне кажется, спасение сегодня в Вере. Но в Вере, если тебя ведет Дух-совесть, а не просто ритуальные церковные обряды. Атеист Чехов в «Трех сестрах» говорил устами одного из персонажей: «Человек должен быть верующим или искать веру, иначе жизнь его пуста, пуста…»…
В то время Демидова еще служила «на Таганке». Я попросил ее прокомментировать слухи о назревающем конфликте между мастером и актерами. Алла Сергеевна высказала свою позицию предельно четко и лаконично. «Когда нам сообщили, что Любимов собирается купить Театр на Таганке (вместе с какой-то западной фирмой, потому что у него самого, думаю, не хватило бы денег), мы, «старики-кирпичи», были обижены, поскольку он сам нас об этом не предупредил. Конечно, мы бы поддержали его, как всегда поддерживали в любых ситуациях. А этим недоверием он как бы отрезал себя от нас. Но когда встал вопрос, изгонять Любимова из театра или нет, я была среди тех, кто его защищал. Потому что он основал этот Дом. Сейчас в репертуаре только спектакли Любимова. Оставлять эти спектакли и вышвыривать их создателя за порог Дома, я считаю, что это будет безнравственный поступок». Я спросил, продолжаются ли судилища в театре: «Не знаю, – ответила Демидова. – Я не была ни на одном собрании и не собираюсь на них ходить». Кстати, вскоре после этого Демидова покинула «Таганку» – тихо, без каких-либо деклараций.
Она вообще обожает тишину. «В Москве люблю ходить за грибами. Здесь, в Ялте, я ни с кем не общаюсь. Сижу на балконе, читаю книжки. Причем разные – от хорошей философии до самых «низких» детективов. Смотрю на море… Голова проясняется. В основном упорядочиваются внутренние ритмы. И недаром мы забрались с вами сейчас на эту гору – нужно хоть ненадолго оказаться вне шума и суеты»…
Все эти годы мы периодически общаемся с Аллой Сергеевной. Например, когда я пригласил ее на съемки программы «Полнолуние», которую в середине 90-х делал на канале «Россия», она предложила встретиться в мастерской Рустама Хамдамова: «Там хорошая аура». А однажды, в мае 2012-го, я побывал в гостях у Демидовой дома.
– Сейчас час дня. Когда я зашел к вам в квартиру, вы сказали, что для вас это раннее утро, поскольку спать вы ложитесь в четыре утра. С чем это связано?
– У меня всю жизнь время передвинуто. И в университет я всегда ходила только к третьей лекции. Слава богу, не было никаких санкций. Даже Юрий Петрович Любимов, который к актерам относился строго и любил рано начинать репетиции, понял, что утром от меня проку нет, и разрешил приходить после двенадцати. Правда, позже, уже когда репетировали «Бориса Годунова». И вы понимаете, как «полюбили» меня после этого остальные актеры.
– Я предполагаю, что актеры «Таганки» и раньше вас очень «любили»: как же, актриса номер один!
– Нет, вы знаете, я не стала «актрисой номер один», там никто в первые годы не был «номер один», даже Высоцкий. На Таганке раньше вообще не было иерархии, но там было соревнование и, видимо, была зависть.
– А вы эту зависть чувствовали?
– Нет, не очень чувствовала, я потом это поняла, когда прочитала дневники Золотухина. Я вообще, откровенно говоря, умна только задним умом, у меня нет опыта будущего, у меня есть опыт прошлого. Я поняла, что, видимо, оттого, что я рано стала сниматься, раньше всех, мне завидовали. Высоцкий начал сниматься еще до 1968 года, но в каких-то «Стряпухах», а это вообще всерьез не принималось, даже наоборот. А у меня сразу – «Дневные звезды», «Щит и меч», то есть заметные картины. Но поскольку я всю жизнь была на обочине, то зависть не очень замечала. Пока однажды, это был уже 1980 год, на премьере «Бориса Годунова» меня не избила моя однокурсница по Щукинскому училищу прямо перед выходом на сцену.
– Как это – избила?!
– Она, видимо, считала, что талантлива не меньше, чем «эта Демидова», что «Демидову даже на первый курс приняли условно, ведь у нее была ужасная дикция. И вдруг ей дают главные роли, ее снимают, а меня нет, почему?» Эта актриса Таганки пришла на премьеру как зритель, потому что уже давно не играла никаких ролей. Она сидела в общей гримерной и пудрила нос, чтобы выйти в зал. Там было большое зеркало, я вышла из своей гримерной, чтобы посмотреться в него. И тут же она стоит рядом: «Ну, с премьерой тебя, фуфло, голый король». И так, вроде в шутку, меня хлопнула пониже спины, а потом вошла в раж и стала меня колотить. Я, надо вам сказать, превратилась в сучочек. И про себя думаю: «О! Мне это сегодня поможет! Добавит злости для роли Марины Мнишек». Но я не смогла играть и провалила премьеру. Я долго не могла от этого оправиться. Такие моменты для меня скорее были поводом разбираться в себе. Сейчас я понимаю, что она, в общем, действительно была талантливая, а судьба повернула ее в другую сторону. Она стала пить, стала ленива – дача, семья, муж… Мы все были талантливые, потому что других в Щукинское училище не берут. Каждому молодому актеру дается шанс, но не все его используют или используют не на сто процентов.
– Неужели вы ничего не ответили этой актрисе, никак не отреагировали?
– Ничего. И никому не пожаловалась, и Любимову не сказала. Но поскольку были свидетели, до Любимова это потом все-таки дошло.
– Не могу в связи с этим не вспомнить одну историю, которую вы мне рассказывали раньше. Незадолго до смерти Владимир Высоцкий репетировал с вами спектакль на двоих как режиссер. И актеры устроили вам бойкот, никто не захотел прийти посмотреть, что вы делаете.
– Вы знаете, это не был бойкот. Это просто равнодушие. Равнодушие к тому, что происходит у других, во-первых, а во-вторых, в Высоцкого как в режиссера не верили. Это сейчас все Высоцкому друзья и товарищи, он гений и так далее. Тогда к Высоцкому относились снисходительно, считали, что его слава такая… Ну, Марина Влади, ну, песни полублатные, ну, компании вот эти светские… Мы были на гастролях в Париже в 1977 году. В театр Трокадеро, где мы играли, нас возили на автобусах. И вот, я помню, все уже сидят, входит Высоцкий и говорит: «Здравствуйте». Практически никто ему не отвечает, он один раз даже возмутился, говорит: «Ну что вы молчите?!» И Любимов тоже очень снисходительно к нему относился. Это потом он стал говорить, как он Высоцкого пестовал. А тогда было иначе. «Так называемые звезды, – это он про нас с Высоцким, – взяли пьесу Теннесси Уильямса, написанную для двух бродвейских звезд…», ну и так далее, с насмешкой, ерничая. Мы с Высоцким сами договаривались с Давидом Боровским, художником, чтобы он нам помог. Нам не давали сцены и специального времени, мы вынуждены были вклиниваться между другими репетициями. И во время прогона первого акта в зале сидели только Боровский и его приятель, кинорежиссер «Ленфильма», который к нему приехал в гости.
– Вы с Высоцким сильно расстроились?
– Нет, потому что это не было неожиданностью, это было нормально для того времени.
– А вообще у Высоцкого был режиссерский дар, как вы считаете?
– Вы знаете, мы споткнулись, конечно, на втором акте. Первый акт несложный, потому что там два актера, брат и сестра, приезжают в провинциальный город и у Высоцкого монолог о страхе выхода на сцену. Его герой тоже режиссер и актер. Сестра принимает наркотики. Мы эту пьесу взяли неслучайно, честно сказать. Но во втором акте, поскольку там сюжет – убийство родителей, и кто убил – он, она или вообще никто не убивал, и это фантазия, чтобы себя подстегнуть к игре, – были возможны разные варианты. Требовалось конструктивное режиссерское решение. Вот тут мы споткнулись и остановились, и не успели закончить.
– Но интересен сам факт, что у Высоцкого была тяга к режиссуре.
– Да. Например, он хотел на Одесской студии снять фильм «Зеленый фургон» и практически договорился. Он и меня тянул туда, он всех своих тянул. И в «Место встречи изменить нельзя» он меня звал. А я тогда никуда не ездила, я только на «Мосфильме» снималась. Он туда утянул своего друга Ивана Бортника, еще кого-то. Высоцкий потом рассказывал, что Говорухин иногда филонил по каким-то своим причинам. А поскольку Высоцкий приезжал на каких-то два-три дня и ему надо было скорее сняться, он сам говорил «Мотор!». Станислав Сергеевич потом рассказывал, что Высоцкий снимал за эти два-три дня больше, чем было нужно по плану, и что сам Говорухин снимал бы это две-три недели.
– Интересно, вы сразу почувствовали актерский дар Высоцкого? Вы же с ним много играли вместе – «Гамлет», «Вишневый сад»…
– Он в «Гамлете» очень много сам предлагал. Любимов вначале не находил решения, мы два года репетировали. И однажды, на репетиции, мы с Высоцким прорвались в ночной сцене, где Гертруда и Гамлет вдвоем, и не только эмоционально, но и в решении. И после этого все пошло. Любимов потом всем ставил нас в пример, как верно держать планку эмоциональности.
– У вас с Высоцким, наверное, было особое притяжение: вы в театре изгой, и он тоже…
– Я никогда не была его другом. И Высоцкий сначала не был изгоем. У него были компании, в которые я не входила, – Золотухин, Шацкая, Жукова, они собирались, выпивали вместе. Я никогда в этом не участвовала. Мне некогда было. Меня никто и не звал, потому что я не компанейский человек. Я, во-первых, не пью. Поэтому мне всегда скучно, когда пьют. А Высоцкий там очень прижился, это потом он оторвался, потому что ему тоже стало некогда.
– В каком спектакле ваши партнерские отношения были наиболее гармоничными?
– В «Вишневом саде». Это были 1974–75 годы, к этому времени Высоцкий уже понимал, кто он, во-первых. Во-вторых, он уже стал выезжать. Побывать за границей – это очень важно. Там другая культура, менталитет, другие реакции, и это очень прочищает мозги и освобождает. Я начала ездить рано, с 68-го года, на Недели советских фильмов. «Щит и меч» вообще снимали в ГДР, и для нас это тоже была заграница. Поэтому у меня мозги уже были прочищены. А никто ведь не ездил, никто! Высоцкий как раз в 1974 году съездил во Францию. Он вернулся на репетиции «Вишневого сада» совершенно другим человеком. Я ему посылала телеграмму на адрес Марины Влади: «Если не приедешь, потеряешь роль». Единственное, перед запоями, то есть перед болезнью, так будем говорить, его несло. Он становился суперменом. Его все раздражало, он ко всем относился очень резко и небрежно. Тогда играть с ним становилось трудно, и в «Гамлете», и в «Вишневом саде». А потом, после болезни, когда он испытывал чувство вины, он становился потрясающим партнером, совершенно потрясающим! Тонким, прекрасным, ловящим интонацию, подхватывающим импровизацию. И играть с ним было одно наслаждение…
– Алла Сергеевна, вы по-прежнему часто бываете в Ялте?
– Да. Каждый год. Правда, Ялта изменилась, Ялта впитала в себя весь этот западный мусор. А Дом актера остался, потому что там дорого и мало кто живет. Я обычно приезжаю в конце сентября или в мае, там практически никого нет. Приезжаю с собачкой, мне там очень нравится, намного больше, чем ездить куда-то далеко.
– Знаю, что вы не любите отмечать дни рождения. Почему?
– У меня было, видимо, очень одинокое, трудное детство. Никто не отмечал мои дни рождения, я не помню ни одну елку. Я не помню праздников, подарков, я не помню любви, которая вообще в детстве должна быть. Не помню, чтобы меня тискали, обнимали, целовали. Хотя помню отца. Помню, в годик я пошла первый раз сама через комнату – к нему. Помню, как он меня подхватил… Видимо, он меня очень любил, я так чувствую. Но он рано погиб. Вот это единственное объятие и любовь, которые я помню.
– А позже, в студенческие годы, уже не возникало потребности в праздниках?
– Нет. Я довольно рано ушла из дома, снимала углы, комнаты, квартиры. Мое одиночество и аскетизм, видимо, уже не переделать. Сейчас я иногда так жалею, что обделена была в детстве любовью, праздниками, подарками. Но время невозможно повернуть вспять.
– Алла Сергеевна, на мгновение еще вернусь к Ялте, которая для вас все-таки остается праздником. Я хорошо помню нашу с вами прогулку в горах. Знаете, что меня поразило тогда? То, с какой легкостью вы взбирались в гору. Вы были вся в белом, такая воздушная, летящая. Я уже устал идти, а вы шли быстро, стремительно и так изящно опирались на зонтик. Как символ: вот так с легкостью преодолевать любые трудности.
– Сейчас стало сложнее, но тем не менее я каждый год туда поднимаюсь. Понимаете, это все не специально. Я помню, как в Греции меня и Диму Певцова один человек из посольства повез в Микены. Там есть могила Клитемнестры, и ворота, где сидела Электра и ждала Ореста. А наверху, на горе, есть средневековый замок. Мы всё осмотрели – и могилу, и эти ворота и пошли наверх. Посольский человек сказал: я не пойду – и сел в кафе. Дима дошел до середины горы, а я до конца. Потому что любопытно – а что там за замок? Любопытство – это самая активная движущая сила: сыграть роль не так, как до тебя играли, ринуться в какую-то киногруппу, хотя не знаешь результата и может получиться плохо. Но любопытство – а вдруг хорошо? Любопытство написать книгу. Любопытство иногда поговорить с совершенно незнакомым человеком. Хотя я неразговорчивый человек, скажу честно. Любопытство и чувство долга – вот две вещи, которые во мне сидят.
– Я с удивлением узнал, что Андрей Тарковский хотел вас снимать в «Солярисе», а ему запретили. Что случилось?
– На Неделе советских фильмов в Италии на пресс-конференции после фильма «Шестое июля» я, видимо, сказала что-то не то, что нужно было, и правительственный чиновник меня отчитал. А я тоже резко ему ответила. Потом руководитель Госкино Баскаков вызвал меня в кабинет и стал учить, что говорить и чего не говорить, я и ему сказала то, что думала. И попала в какие-то черные списки. Но думаю, это не из-за моих высказываний, а потому что я, как писали местные газеты, «переиграла Ленина».
– Это в фильме «Шестое июля»?
– В «Шестом июле», да. Всегда отрицательная роль интереснее и ярче, чем положительная. И мне перестали давать главные роли, потому что я якобы тяну одеяло на себя. Немецкий режиссер Конрад Вольф хотел меня снимать в роли герцогини Альбы в «Гойе» с Банионисом. У него была хорошая идея, мне она очень нравилась: что Гойя стал другим художником после встречи с герцогиней Альбой, после этой любви, разрыва и так далее. И что серия «Капричос» Гойи появилась после этой встречи, что Гойя открыл в себе другой талант. В итоге Конрад Вольф взял Оливеру Вучо, югославскую актрису, очень плотскую. Хотя герцогиня Альба, если судить по картинам Гойи, совершенно иная. И вся история пошла совершенно в другом направлении.
– Печально.
– У Тарковского в «Солярисе» была философская идея: вообще, кто эти фантомы? Это действительно такая же плоть, как наша, или это, как когда просовываешь руку, а рука проваливается? Это фантазия или реальность – и вообще, что такое Человек? Но в то же время, что такое фантазия? Может быть, вообще весь мир – фантазия… Мне запретили сниматься, а в это время вышел фильм Ларисы Шепитько «Ты и я», и там снялась молодая Наталья Бондарчук. Шепитько посоветовала Тарковскому: попробуй Наташу. Она была молодая, юная, и нужен был совершенно другой ход. Тарковский ее взял, она очень хорошо сыграла, но в то же время философская идея осталась непроявленной.
– Вы переживали, что все так случилось, или, вернее, не случилось? Чисто по-человечески?
– Нет, Вадим, нет, конечно, потому что так бывало очень часто, я сейчас даже и не вспомню все фильмы, где меня не утвердили. Эти просто запомнились, потому что очень яркие два фильма. Бывало, я и сама уходила. Например, не для печати, расскажу. Я «входила» в «Идеальный муж» и даже придумывала шляпки, костюмы и прочее. После первого съемочного дня мне показалось, что это все такая пошлость! И я ушла. А снялась Людмила Гурченко. Сейчас этот фильм все время показывают, и он даже многим нравится.
– А вы говорите «не для печати». Этот эпизод очень вас характеризует.
– Ну, потому что неудобно перед Гурченко. Удивительно, но с ней у меня так было несколько раз. Алексей Герман хотел меня снимать в «Двадцать дней без войны». Но против меня был Константин Симонов, потому что мне сначала сделали грим Валентины Серовой, и его это, видимо, возмутило. Тогда Герман взял Гурченко. Или вот, например, фильм «Старые стены», который я Гурченко тоже, видимо, подарила. Там я должна была играть директрису ткацкой фабрики. Я сначала согласилась, а потом подумала: ну куда я лезу? Зачем мне играть директрису советской фабрики?! Я никогда не влезала, сказать честно, в идеологические игры. Я вообще не воспринимала ту жизнь, всегда была во внутренней эмиграции. И я отказалась. Тогда взяли Гурченко. И после затишья у нее был трамплин… Нехорошо, что я все это рассказываю.
– Не согласен, Алла Сергеевна. Это очень важный штрих. А сколько у вас было испытаний! Вас поначалу не приняли в Щукинское училище, и вы закончили экономический факультет МГУ, потом играли в студии при «Ленкоме». Оттуда вас попросили уйти из-за профнепригодности, но вы все равно шли к своей цели.
– Я абсолютный фаталист. Я прислушиваюсь, нет, не к судьбе – к обстоятельствам. Обстоятельства как река, а я просто плыву по предлагаемым обстоятельствам.
– Но ведь в свое время фаталист Демидова приняла решение уйти из театра на Таганке и пуститься в самостоятельное плавание. Это же был риск.
– Вы знаете, если бы я сама что-то делала, я бы из театра на Таганке ушла раньше, до того, как начался его раздел и весь этот ужас. Но я не ушла – меня уволили. Это было время, когда раздел театра уже произошел, нам осталась старая сцена. Я всегда говорю, что они не правы, это губенковское содружество. Дело в том, что они убили восемь любимовских шедевров и основные мои спектакли. «Электра», «Пир во время чумы», «Три сестры», «Вишневый сад», «Федра», «Борис Годунов», «Доктор Живаго» и другие. Они были сделаны в расчете на новую сцену. Чтобы их перенести на старую, нужны были новые декорации, этого никто бы не стал делать. У меня на старой сцене осталось «Преступление и наказание», где я играла маленькую и не очень любимую роль. За спектаклями никто не смотрел, Любимов в это время отрабатывал свои контракты на Западе. И я стала филонить, перестала выходить на сцену под разными предлогами. Я зарплату не брала, хотя это были тогда вообще смешные деньги. И актеры пришли к директору и сказали, что раз Демидова не выходит на сцену, пусть она уходит из театра. Меня директор вызвал к себе и сказал: «Актеры поставили такое условие. Хотите знать кто?» Я говорю: «Догадываюсь». Он говорит: «Ну, что будем делать?» Я говорю: «Уйду из театра». – «Нет, Алла, давайте напишем отпуск». Я написала заявление на отпуск, на три месяца, и вот он длится уже сколько? Пятнадцать лет.
– У вас не было страха перед неизвестностью?
– Наоборот, я освободилась от какой-то зависимости. Появились поэтические вечера, которыми я стала заполнять сценическое пространство. За мной все начали повторять этот жанр – читать с листа. А такую поэтическую манеру в свое время предложил мне Джорджо Стрелер. Пишу книги. И думаю: а куда меня еще жизнь толкнет? Я не вмешиваюсь. Мне предложил Кирилл Серебренников поставить на его курсе в Школе-студии МХАТ спектакль «Квартет» Хайнера Мюллера. Я согласилась, потому что очень хорошо знаю материал и Хайнера Мюллера. Но потом Кирилл говорит, нет, давайте «Гамлет. Машина». Но мне не нравится этот материал. Меня затащили в Щукинское училище – учить. Я там поставила со студентами отрывок из «Чайки». Они сейчас показывались в Вахтанговский театр, Туминасу, ему понравился этот отрывок, он мне позвонил и сказал: «Я хочу сделать студию, потому что молодые актеры, когда приходят в театр, получают маленькие роли и только через 10–15 лет получат большие. А я хочу, чтобы они сразу играли большие роли, поэтому хочу сделать в подвале студию. Поставьте с ними «Чайку». Вот предложение, да? Совершенно потрясающее. И это не я предлагаю, это жизнь предлагает. У меня всегда так. Иногда что-то не выходит, иногда выходит. Но я в этом участвую по мере сил.
– Два года назад мы с вами были в незабываемой поездке в Венецию, на открытии мемориальной доски Иосифу Бродскому. Вы тогда рассказали мне историю о том, как Бродский однажды пригласил вас в Америку…
– Если бы мне сейчас позвонил Бродский, это был бы шок, взрыв вулкана. А тогда, в 90-м году – ну хорошо, позвонил Бродский. Он пригласил меня, и я поехала в Америку. Это был юбилей Ахматовой. Он сказал: «Мы с вами и с Найманом будем читать на русском языке, а американцы будут читать на английском». Я решила ему что-то подарить. Купила две книжки, я знала, что он преподает теорию стихосложения XIX века, философию стихосложения, еще что-то. Я приехала рано. Бродского не было. Он пришел буквально за полчаса до начала. Мы поздоровались, я ему протянула эти книжки, а он их бросил назад через плечо, как вчерашнюю газету. Это мне очень не понравилось, и у нас началось такое сопротивление друг другу. Позже он мне прислал свой сборник с нежной надписью. Вот тогда я стала открывать для себя Бродского, и считаю, что он гений и лучший современный поэт. И если бы он мне позвонил сейчас, когда я знаю его творчество, то я бы просто онемела.
– Я знаю, что по утрам вы обязательно раскладываете пасьянс. Всегда ли получаете хорошие вести?
– Нет, часто не складывается. Это ритуал за утренним чаем.
– А зачем вы это делаете, если вести могут быть недобрые?
– Зачем мы чистим зубы? Не знаю, я, например, терпеть не могу чистить зубы, но чищу. Поэтому и раскладываю пасьянс.
– Вы живете в самом центре Москвы. Вот я в свое время сбежал с Тверской, хотя окна моей квартиры выходили во двор. Все-таки энергетика здесь очень тяжелая. У вас к этому, судя по всему, совсем другое отношение.
– Я родилась и долго жила в районе Балчуга, поэтому я существую в пределах Бульварного кольца всю жизнь. И в университете я училась на Моховой, а не на Ленинских горах, это мой пятачок. И в школе я училась тут, на Балчуге, и мы ходили гулять по Тверской. Это мои детские места.
– А у вас бывают дома гости, вы накрываете стол для друзей?
– Сейчас мой дом закрыт. Раньше это был проходной двор. Когда мы еще жили на улице Чехова, в кооперативном актерском доме, у нас в прихожей стоял маленький диванчик. И один раз остался ночевать Борис Хмельницкий, а он высокий. Когда утром он встал, то не мог разогнуться. Мы поехали на репетицию, и все обсуждали, почему он сгорбленный. Он сказал, что спал на очень маленьком диванчике. Все стали вспоминать свои самые неудобные позы, и выиграл Высоцкий. Он сказал, что однажды напился и понял, что дома его не примут и вообще в Москве не примут, но есть одна знакомая на даче где-то, которая всегда его принимает. Он доехал туда благополучно на такси, дошел до дачи, а там такой заборчик и калитка, и надо было перегнуться и замочек открыть. Он перегнулся и заснул, а когда проснулся, светило солнце, но разогнуться он не мог, и его просто сняли с этой калитки.
– Гениально! Скажите, как вы ощущаете бег времени, какой главный ориентир?
– Я не считаю вообще, что время бежит. Конфуций говорил: время стоит, бежите вы. Для меня нет движения времени. Для меня иногда то, что произошло 20 или 15 лет назад, как будто случилось вчера. А то, что случилось вчера, мне абсолютно не важно.
– Вот что, мне кажется, вами движет – вы невероятно свободный человек.
– Да, я свободно общаюсь со всеми людьми, которые мне хоть немножко по душе. Я с вами, видите, очень откровенно говорю.
– А почему вы со мной откровенно говорите?
– Потому что вы понимаете еще что-то, что идет после ответа, что за словами. Потому что есть ассоциативный ряд в нашей жизни и вы понимаете эту жизнь, а вот, предположим, та женщина-корреспондент, которая при вас позвонила только что, она не понимает ни мою жизнь, ни жизнь московскую, ни Тарковского. Ну что с ней говорить, я буду только объяснять, а она будет слушать. Тут как в поэзии – не слова важны, важно что-то другое. Тайная жизнь и тайная музыка, которая идет за словами или до слов. Поэтому есть диалог, который не на словах основан. А если просто вопрос-ответ, то – до свидания.