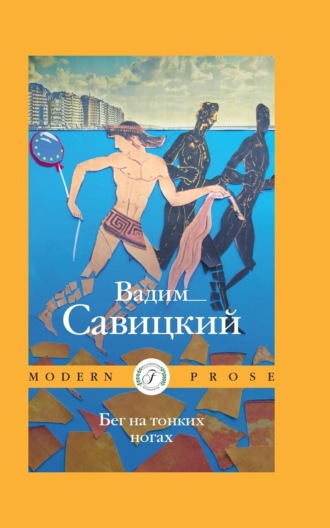
Вадим Савицкий
Бег на тонких ногах
Глава четвёртая
С доктором Гретой
Справа от двери кабинета доктора стоял детский алюминиевый самокат. Ждать мне пришлось долго. Через полчаса я начал нервно ёрзать на голубом пластмассовом стуле. Мысли постоянно возвращались к Алле, адвокатам, беженской процедуре. Вернуться домой и потерять подругу или остаться и привязать себя к ней и её – к себе? Так я просидел три часа, подавленный своими путаными мыслями и нерешительностью. В полдень стеклянная дверь кабинета психиатра широко распахнулась. Мимо меня быстрым шагом на коротких, не сгибающихся ногах прошёл квадратный чеченец в кепке. Вслед за ним показалась женщина в модном брючном костюме, похожая на узбечку или казашку. Прошло ещё несколько минут, хлопнули дверцы автомобиля, кавказский клиент и его среднеазиатская переводчица выехали за ворота. И только после этого щуплая женщина со стертым лицом и копной подстриженных седых волос махнула сухой рукой, зазывая меня в кабинет.
Она представилась компаньоном психиатра и была готова меня выслушать. Я попросил разрешения говорить по-английски, считая этот язык более доходчивым, логичным и менее лицемерным, чем французский. Она кивнула с глупым старушечьим энтузиазмом, приглашая меня тут же приступить к делу.
– Решившись иммигрировать – а для меня это был безумно храбрый поступок, – я зашёл по грудь в обжигающе холодную воду и теперь стою перед выбором: поддаться нестерпимому желанию выбежать из воды или же попытаться согреться резкими, размашистыми движениями неопытного пловца, – сказал я. Это была моя попытка расположить к себе старушенцию своей искренностью. Преимущества такого подхода казались мне несомненными. Но я ошибался.
– Стоп! – грубо оборвала меня маленькая седовласая дама. – Я не терплю прилагательных. Пожалуйста, употребляйте их как можно реже. А теперь продолжим. Вы, несомненно, страдаете синдромом отчуждения, расстройством личности и психопатией. Женщины на велосипедах, исторические памятники раннего и позднего Средневековья, собаки на поводках, аптеки и скопления магазинов с чистыми витринами вызвали у вас культурный шок. Преимущества здешней жизни кажутся вам несомненными. Но вы не можете чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока не получите статус постоянного жителя. Вы вздрагиваете от почтальона в фуражке, путая его с полицейским. Ажурные ворота прячущихся за зеленью вилл напоминают вам тюремную решетку, а шум газонокосилки – пулеметную стрельбу. Всё вокруг раздражает вас и противоречит вашей строгой исконной культуре. Верно?
Я растерялся. Вблизи лицо старушки больше не казалось мне таким уж по-черепашьи вялым, как представилось вначале. Упорные глаза излучали тусклый, но ровный свет. Эта неказистая пожилая женщина имела неистощимый запас энергии, не исключено, что она могла без устали ходить по горам и пережить своих детей и внуков, если таковые у неё имелись.
– Не пугайтесь, я не буду задавать много вопросов. Но вы получите домашнее задание. Вам надо будет перечислить по пунктам и записать с пояснениями все события вашей короткой сексуальной жизни. Затем я разработаю профиль вашей сексуальной ориентации. Тут нас могут ждать неожиданности. Но вы должны быть уверены, что данная информация абсолютно необходима. Иногда простой, правильно составленный очерк сексуальной ориентации является достаточным для получения права на проживание. Радуйтесь, что вы имеете дело с доктором со стажем – мадам Гретой. В моём архиве несчетное количество успешно завершенных дел иностранцев. На прошлой неделе мне пришло позитивное решение для многодетной афганской семьи. Знаете, на чём был основан мой запрос о медицинской амнистии? Семилетний сын мочился в кровать от страха депортации.
Грета бодро подмигнула мне, но я молчал. Она придвинула стул и положила на стол ноги в коротких белых штанах и босоножках. Этот жест должен был символизировать раскрепощенность и демократичность её мышления. Но я остро почувствовал бесполезность встречи. Грета подпёрла дряблую щёку двумя пальцами и пристально посмотрела на меня. Она не понимала причину моего молчания и снова попыталась меня подбодрить:
– После нашей четвёртой встречи я должна буду заполнить с вашей помощью бланк для запроса медицинской амнистии, который вы сможете отнести адвокату. C этим стоит поспешить – сейчас чрезвычайно благоприятное время для подачи запроса. Все запросы признаются приемлемыми к рассмотрению одним армейским врачом, который как военнослужащий не имеет права выносить негативные решения по делам другого министерства.
Преувеличенное подчеркивание Гретой некомпетентности государственных служащих показалось мне подозрительным. Не является ли это отвлекающим маневром, дымовой завесой для доверчивых и убогих? И с какой целью это делается? Не совпадают ли интересы чиновников – гарантия места или продвижение по службе – с интересами адвокатов и психиатров? Не предлагается ли мне стать игрушкой в руках психиатров-маразматиков и ненадёжных апатичных чиновников?
– Разбирательство дела может длиться несколько лет, и всё это время просителю выплачивается полное прожиточное пособие. – Грета продолжала активно завлекать меня в свои сети. – Собственно говоря, настоящая работа психиатра и адвоката начинается после первого отказа в медицинской амнистии, когда становятся известны его обоснования. Чем мотивированнее отказ, тем легче добиться отмены решения. Мотивированный отказ не только даёт ключи к успешной апелляции, но и сам по себе является хорошим знаком: запрос был по меньшей мере внимательно прочитан и рассмотрен по существу. Вы, может, спрашиваете себя (я сужу по неизбывной тоске в ваших пустых глазах): откуда берётся этот мой энтузиазм? Может, мне просто нравится говорить по-английски? Или я рада воспользоваться такой редкой возможностью пообщаться на этом интеллектуально гибком языке?
Грета разразилась хохотом, который тут же перешёл в отрывистый, астматический кашель. Если я не хочу потерять Аллу, то должен решиться и вступить в сделку или, для начала, хотя бы в беседу с этой азартной больной дамой. Я не могу расстаться с Аллой. Меня всегда выручали девушки и женщины. Я был безумно любим мамой и бабушкой. Потом к ним добавились молодые воспитательницы в мини-юбках в детском саду – они постоянно брали меня к себе на круглые колени, нежно обтянутые тончайшими капроновыми чулками. Чопорные преподавательницы химии и физики в школе обожали меня и внушили мне, что я самый способный ученик школы за последние двадцать лет. И вот теперь Алла, моя случайная, несчастная и нежная подруга, моя немного глупая, немного вульгарная, неброско красивая, не в меру стройная и гибкая кукла с чуть писклявым голосом, опекала меня в трудной ситуации. Она устроила для меня встречу с психиатром, попасть к которому можно было, только записавшись за два месяца заранее. Мне надо взять себя в руки и хоть как-то поддержать разговор. Но я размяк и от ужасной усталости не мог выдавить из себя ни слова. Я мало спал в последние дни, и мне приходилось из последних сил сдерживаться, чтобы не закрыть глаза. Тогда бы я сразу погрузился в сон, и неизвестно, где бы проснулся. Я ущипнул себя за ногу, достал из бокового кармана свой диплом и протянул его психиатру. Грета раскрыла твердую красную корочку документа, с изумлением и неприязнью покосилась сначала на перевернутый русский текст, затем на меня.
– Господин Эндрю, я не смогу заполнить требуемый бланк без вашего участия.
Я исторгнул громкое мелодичное мычание, а Грета, облизав сухие губы кончиком языка, заговорила с серьёзным и сосредоточенным выражением лица:
– Я понимаю трудности, с которыми вы сталкиваетесь, пытаясь передать мне отчёт о своём маниакально депрессивном состоянии. В ответ на вашу преувеличенную тревогу скажу следующее: психиатрии времён позднего СССР больше не существует. Наша психиатрия – пусть не самая точная, но самая гуманная наука, которая извиняет всё, что понимает, а иногда даже и то, что не совсем понимает. Суть этой науки – терпимость к человеческим слабостям, и в этом смысле мы, психиатры, пошли дальше, чем любая религия. Психиатрия встаёт на защиту обездоленных, осуждённых и забытых современным миром. Подумать только, мы до сих пор сталкиваемся с презрением, унижением всего нашего сословия психиатров, психологов, психоаналитиков.
Моя собеседница говорила долго, предложения плавно закруглялись, перетекали одно в другое; она говорила так искусно, что слабые и рискованные места её рассуждений неизменно обращались в сильные, речь лилась без запинки и без видимых усилий. Похоже, Грета решила в полной мере использовать моё молчаливое присутствие в этом кабинете. Но с какой целью? Потренировать своё красноречие? Мне было непонятно, почему она говорила с такой странной степенью самоотдачи об отвлеченных и бесполезных вещах с одним из многочисленных клиентов. Я тихонько вздыхал, думал о чём-то глупом, но своём, почти перестал слушать Грету и вздрогнул, когда она напрямую обратилась ко мне, произнеся имя Аллы.
– Вот вы, молодой человек, делаете вид, что не нуждаетесь в моих услугах. Время от времени вы скрещиваете руки на груди. Типичный жест непризнанного беженца. Но вы отнюдь не случайно находитесь в моём кабинете. Я помогла в своё время получить Алле статус нуждающейся в защите жертвы проституции, что позволяет ей получать хорошую субсидию. Только не подумайте, что ваша очаровательная подруга занималась проституцией. Совсем наоборот, сам факт, что она разрабатывала со мной подобный метод своей защиты, значительно уменьшает шансы предполагать, что она когда-либо занималась проституцией. Эта странная закономерность описана в моей научной работе «Рефлекс втягивания лап у черепахи и поиск истины в рассказах беженцев». Алла стоит на правильном пути, проходит курс социальной интеграции, отлично говорит по-французски и учит голландский. Вы не первый беженец, которому она отдаёт свое доброе сердце. Это тоже своеобразный синдром. Она, бедняжка, так много пережила, что может любить только новоприбывших беженцев. Другие мужчины и женщины её не интересуют. А к беженцам она привязывается и не отпускает их от себя. К сожалению, ничего, кроме разочарований, на этом пути её не ждёт. Беженцы – люди непостоянные, ненадёжные и чрезвычайно легкомысленные. Итак, вот вам контракт, внимательно почитайте его, там же вы найдёте условия оплаты. Я ожидаю вас на этой неделе в среду, четверг и пятницу. За одну неделю мы сможем пройти все требуемые четыре сеанса психотерапии.
Грета пожала мне руку. Мы вместе вышли за дверь. Не сказав больше ни слова, Грета встала на самокат и покатила, оттолкнувшись босоножкой от пола, в другой конец коридора.
– Извините, мне надо срочно сделать пи-пи! – выкрикнула божья старушка, игриво оглянувшись.
Я медленно направился к выходу.
* * *
Аллу я нашёл в ресторане отеля. Она сидела за столиком вместе с двумя грузинами, похожими друг на друга черными блестящими глазами и черными же, гладко зачёсанными назад волосами. Увидев меня, оба вскочили, замахали руками и усадили меня за стол. Они говорили взахлеб, со странно певучей интонацией, заводя глаза к небу, хлопая меня по плечам с двух сторон и заверяя в своей дружбе.
– Ты давно с ними знакома? – спросил я, резко встав.
– Ты меня уже ревнуешь? – Алла сначала строго посмотрела на меня, а потом улыбнулась и кивнула изумлённым грузинам.
Те тут же поднялись из-за стола и удалились.
Когда мы остались вдвоём, я принялся рассказывать Алле о встрече с психиатром, больше ни словом не упоминая о грузинах, на корню пресекая в себе проявления ревности, упрямства или нетерпения.
– Малыш, ты странно вёл себя с Гретой, единственным человеком, который может помочь тебе получить право на легальную жизнь в Бельгии. – Алла положила руки на колени скрещенных, безукоризненно стройных ног и спокойно взглянула мне в лицо. – Ты хоть понимаешь, что наделал? Объясни, что с тобой происходит? Твои мысли заняты чем угодно, но только не мной. Ты не любишь меня.
– Конечно, люблю, и мысли мои заняты тобой одной.
– Ты хоть понимаешь, что наделал?! – повторила Алла, теряя терпение. – Какой диагноз может тебе поставить врач, если ты молчишь, губишь всё своим идиотизмом и делаешь это за сто евро в час, не имея больничного страхования?
– Алла, прости меня, послушай, я ничего не погубил. Грета назначила мне ещё три встречи. Дело в том, что она сама заткнула мне рот в самом начале, – пытался защищаться я. – Я физически не могу сносить унижений от учёных тупиц, претендующих на интеллектуальное превосходство. Каждая жилка во мне напрягается, и из меня готова выстрелить какая-то пружина. Я едва сдержался.
– Мне остаётся только заплакать от радости и кинуться на шею настоящему мужчине? – Алла не скрывала больше своего раздражения и оттого раздражалась ещё больше.
– Эта Грета вцепилась в меня, как паук, и не отпускала целых два часа. Мне стало тошно от её старушечьего кривлянья и какого-то ведьмовского азарта, – сказал я и сразу почувствовал, что мне не стоило так говорить.
Алла принялась защищать Грету и делала это в агрессивной манере, оправдывая свою грубость тем, что желает меня спасти.
Я взял её за плечи и резко встряхнул:
– Алла, я панически боюсь таких яростных ссор. Они ведут к расставанию, которое я пытаюсь всеми силами предотвратить. И чем больше сил я к этому прилагаю, тем больше вероятности, что всё разрушится само собой.
– Зануда, какой же ты глупый зануда, – сказала Алла и мило сложила губы для поцелуя.
* * *
Следующим утром мне не пришлось долго сидеть в приёмной. Похоже, в стране отмечался какой-то праздник. В приёмной царила гнетущая тишина. Возле двери кабинета поблескивал хромированными колёсиками самокат Греты. На этот раз приёмная поразила меня своим жалким видом. Длинный, слишком узкий коридор, белые обои с черными следами обуви внизу за стульями. Стенные шкафы, которые я вчера принял за алюминиевые, на самом деле были сделаны из опилок и покрыты каким-то пластиком. Опилки со всей своей очевидностью проступали в местах оторванного пластика. Пластмассовые стулья эпатировали нищенским примитивизмом. Если даже частная практика и разрасталась, замахнувшись на многое, вкладывать средства в офисный интерьер, приняв в учет неприхотливость клиентуры заведения, здесь посчитали излишним.
Из полуоткрытой двери кабинета выглянуло круглое лицо адвоката в докторской шапочке и вместе с ним – половина объёмистого туловища в белом халате. На эмблеме, вышитой на нагрудном кармане халата, я прочитал: «Центр заботы о психическом здоровье». Адвокат позвал меня в кабинет.
– Брат просит меня иногда подменять его на рабочем месте. Но сегодня я подменяю Грету. У неё заболел любимый ослик, которого она держит в качестве домашнего животного у себя в саду. Она ждёт прихода ветеринара. Если вы не против, то мы сразу и начнём. У нас не так много времени. Итак, я включаю устройство. Вы можете говорить по-английски. Эта машинка всё переведёт на голландский. Иногда нам, адвокатам, приходится жонглировать языками. Если нам удаётся запутать служащих комиссариата с выбором языка (французский на первом интервью, голландский на втором), то верховный суд принимает позитивное решение по техническим причинам. Но не будем отвлекаться. Сегодня должны говорить вы. Такое поручение я получил от Греты. Старайтесь как можно чётче выражать свои мысли и использовать только полные, законченные предложения. Эта машинка начинает пищать, если она что-то не разобрала.
«Имею дело с хорошо отлаженной системой психиатрической помощи, – подумалось мне. – Эффективность этой системы не следует недооценивать…»
Но адвокат не дал мне возможности закончить мысль.
– Начинайте с Богом и не прерывайтесь как можно дольше.
Глава пятая
«Великий мастер»
Странно, но всё время, пока я говорил в диктофон, у меня не возникло ни малейшего чувства неловкости, разве что усталость под конец. Напротив меня за столом сидела не Грета, а круглолицый адвокат в белом халате. Он внимательно, не перебивая без необходимости, слушал меня, по-детски наивно почёсывая голову. Я начал издалека:
– Я знаю, что вы намереваетесь записать мой рассказ и поставить мне соответствующий диагноз. И готов всеми силами в этом помочь, но учтите: я никогда не запоминаю голые факты. Мне даже иногда кажется, что я делаю всё, чтобы их тут же забыть. В редкие минуты, когда мне удавалось заняться интерпретацией фактов своей юной жизни, я находился в особом настроении: созерцательном, похожем на медленное погружение в самого себя, с привкусом горькой радости, сладкой печали на растянутых в гримасе губах, ощущающих веяние морского бриза.
На приборе загорелась красная лампочка, послышался электронный писк. Адвокат выхватил диктофон у меня из рук и принялся что-то списывать с маленького экрана.
– Извините, тут требуется уточнение. Привкус морской соли на каких частях тела?
Мой взгляд, должно быть, отчетливо выразил избыток презрения.
– Хорошо, я попробую отключить функцию контроля речи.
– Итак, настроение должно быть задумчивое – такое определение моего состояния вам должно понравиться больше всего. Задумываюсь я, как правило, в пути (в поезде, самолёте, на велосипеде) или во сне, но даже в этих, благоприятных для размышлений ситуациях мне приходят на ум лишь несвязные мысли и расплывчатые образы. Вот я совсем маленький мальчик. Мне два или три года. Я сижу на очень большой кровати и держу в ладошках свои ступни. Мама лежит справа от меня, папа – слева. Мы провели весь день на пляже. Через открытое окно на кровать падает прозрачный куб закатного солнца. Мои ладошки пахнут арбузным соком и морем. Я сижу на кровати так тихо, что в один момент встречаю озабоченный взгляд папы. Испытываю мгновенно возникшее и тут же готовое исчезнуть чувство счастья. И за ним – смутный страх, сковывающий меня так сильно, что я даже не в состоянии заплакать. Папа пододвигается ближе ко мне и достает закатившую в щель между матрасами машинку. Я выкрикиваю только мне понятные слоги «та-ля, та-ля» и изображаю чрезмерную детскую радость.
Я был настолько послушным, нешумным и смышлёным ребенком, что моим родителям многие завидовали. Мама говорила, что даже её сестра, которая добилась в жизни всего, чего хотела, тоже испытывала зависть. Моя тётя была высокой, довольно стройной, всегда носившей короткую стрижку женщиной. Улыбаясь, она зачем-то постоянно поправляла дужки очков. Улыбка у нее выходила холодная, желатиновая, полуслепая. В раннем детстве я не мог, конечно, в полной мере оценить степень коварства этой улыбки. С годами тётина немилость ко мне стала очевидной и временами переходила в открытое раздражение и крайнюю злобу. Когда мне было шесть лет, тётя привезла из поездки в Индию книжку типа «сделай сам», с помощью которой вырезала и склеила фигурки слона, верблюда, жирафа и других зверей. Уже в начале моей игры у наполненных воздухом бумажных животных подкосились лапы и поникли головы; я заплакал. Тётя, смахнув фигурки со стола в мусорное ведро, посоветовала родителям почаще наказывать своего избалованного ребёнка.
Привычка тёти дарить маленькие подарки с годами переросла в странную манию. К этому времени она уже обзавелась полезными связями, добилась головокружительного продвижения по службе, но по привычке продолжала носить зубным врачам шоколадки, а чиновникам и другим нужным людям – коробки с конфетами. Подарки (она называла их презентами) для меня и моих родителей были особые. Маме она как-то привезла из поездки за границу кусок гостиничного мыла, а отцу подарила на день рождения пластмассовый рожок для обуви. На моё пятнадцатилетие тётя вручила мне слегка потрепанный томик «Легенды и мифы Древней Греции» с печатью городской библиотеки. Откуда у этой всеми уважаемой родственницы могло взяться такое пренебрежение и нелюбовь к нашей семье? Тётя упрекала мою мать в том, что мне позволено слишком много, что я всё время занят учёбой и расту эгоистом. Казалось, даже её юбка в складку, скрывающая широкие бёдра и тяжёлый зад, укоряла меня в слишком легком взгляде на окружающий мир, в самонадеянности и надежде на счастливое «авось». Все мои попытки уменьшить тётину враждебность встречались с упорным сопротивлением. Вы как врач-психиатр… извините, как адвокат, должно быть, часто сталкиваетесь с пациентами, похожими на мою тётю.
Я прервал рассказ и замолчал. Адвокат махнул рукой в сторону записывающего устройства и подал мне знак продолжать.
– Болезненное состояние, которое я вызывал в своей тёте, можно было бы назвать родственным отторжением. Именно по праву родства она решила раз и навсегда, что я являюсь недостойным, жалким и непутёвым существом. Мои успехи в учёбе она преуменьшала и приписывала их усидчивости и хорошей памяти. Тут же добавляя, что в стране и без меня хватает деревенских философов и лингвистов. Мне казалось, что, если бы у неё была возможность стереть всё начисто из моей головы, как из компьютерной памяти, она бы сделала это незамедлительно одним или двумя настойчивыми щелчками. Это принесло бы ей ощутимое, но недолговременное облегчение. Ведь ненавидела она меня целиком, уничтожение моего внутреннего мира не удовлетворило бы её: до тех пор, пока я находился поблизости, о прекращении её гневных припадков не могло быть и речи.
Записывающее устройство вновь зашипело и замигало. Адвокат встряхнул головой. Но шипение прекратилось так же неожиданно, как началось. Раздался хлюпающий звук удовлетворения, и лампочка погасла.
– Вот, пожалуй, и всё. Осталось только рассказать о том, что послужило последним толчком для моего отъезда за границу. Решение было принято в один день, как часто в таких случаях происходит, окончательно и бесповоротно. Что явилось главной причиной, догадаться несложно. Трудно было исчерпать всю глубину исходившей от моей уважаемой тёти нелюбви, непосредственным объектом которой стал я. Трудно было испытывать неудачи при бесчисленных попытках примирения и думать о том, как счастливо я мог бы жить, если бы всё сложилось иначе. Легче оказалось просто свыкнуться со своим уделом и надеяться на лучшее. Когда мне исполнилось двадцать два года, огромную страну, где я родился, разбил старческий паралич. Главный коммунист, недалекий деревенский парень, только и делал, что болтал часами по телевизору. Какую мысль хотел он донести до нас, своих верных и безропотных поданных, ценящих больше всего на свете своё неведение? Оратор-самородок говорил самозабвенно, растягивал гласные звуки и не спотыкался на согласных, как его предшественник. Он поднимал по утрам гантели и всегда прислушивался к мнению жены. Простые люди предполагали, что добром это не кончится, но никто не думал, что всё произойдет так быстро. Наступил декабрь тысяча девятьсот ** года, главный коммунист объявил по центральному телевидению о своём отречении от власти. Народ сохранял непоколебимое спокойствие и продолжал как ни в чём не бывало праздновать Новый год. Первого января я и мои родители по традиции были приглашены к тёте. Мы как самые близкие родственники имели честь доедать кушанья, оставшиеся после новогодней ночи. Я вошёл в тётину квартиру со смущением школьника, первый раз участвующего в любительском спектакле. К этому времени я уже получил университетский диплом и, по словам тёти, убегал от действительности, утешая себя планами написания диссертации по психолингвистике. С развалом страны эти планы становились нереальными и, как считала тётя, даже вредными, жалкой отговоркой для ничегонеделания. Тётя содержала нашу семью. Квартира моих родителей была фактически заложена у неё за деньги, которые она давала матери в долг. В первый день того Нового года тётя находилась в возбужденном состоянии и отчасти даже в смятении: с одной стороны, она испытывала безграничное презрение к моим родителям, впавшим в нищету, с другой – боялась, что те могут всё же не согласиться с её планом спровадить меня за границу. Добиться моего согласия, как она и рассчитывала, не представило особого труда. В конце новогоднего застолья тётя намекнула, что у меня никогда не хватит духа применить свои лингвистические знания на деле и уехать за границу. Я пообещал ей доказать обратное, и она тут же вызвалась взять на себя все расходы, связанные с моим отъездом. Мама несколько раз дёрнула меня за рукав. Отец сидел с понуро опущенной головой. Через пару месяцев пассивное сопротивление родителей было сломлено. Помню яркий солнечный день, людный вокзал, блестевший вымытым каменным полом, легкую тошноту от прикосновений к перилам, подоконникам и скамейкам. После долгого ожидания наступил момент расставания, горестно беспокойные лица моих родителей перекосились, мама зарыдала. Мы крепко обнялись. Когда автобус тронулся с места, отец держал маму под руку. Оба синхронно махали мне на прощание.
Я закашлялся. Адвокат поднялся со стула, подтянул штаны и принялся вслух считывать информацию с панели прибора:
– Недостаточно запахов, красок и ритмических заклинаний для постановки диагноза. Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы. Что вам напоминает запах свежих шампиньонов? Какой цвет ассоциируется у вас с чрезмерным наслаждением?
Я чувствовал себя слишком измотанным, чтобы отвечать на подобные вопросы. Но адвокат сообщил, что устройство, называемое «Великий мастер», не прощает уклонения от ответов, что в моём случае любой вздор и сущая нелепица лучше молчания. Мне не сразу удалось пересилить себя и продолжить рассказ. Чтобы хоть как-то подстегнуть свой усталый мозг, я обратился напрямую к адвокату:
– Хотите услышать, чем умный человек отличается от глупого? Первый готов отвечать только на те вопросы, которые задает себе сам, глупый берётся отвечать на чужие, доносимые до него к тому же часто в провокационной форме. Ваш прибор хочет и дальше исследовать мое сознание. У меня нет выхода. Но я устал и по своей воле не стал бы больше говорить.
– Расскажите о самом ужасном событии в вашей жизни, – раздался сочный мужской баритон. Я не сразу понял, что голос доносится из записывающего устройства, поэтому, только выдержав короткую паузу, начал:
– Однажды я проснулся от того, что чуть не задохнулся во сне. Мне было восемнадцать лет, возраст, когда почти не думаешь о смерти. Среди ночи я оказался буквально раздавлен немой, удушающей болью. Она нарастала во сне и разрешилась в одной необычайно сильной вспышке, похожей на глухой взрыв. Отблеск боли исчез при пробуждении, но на смену пришёл животный страх. Секундами раньше я вдруг увидел, что на моей кровати, прислушиваясь к чему-то в темноте, сидит бродячая облезлая кошка, которую я видел накануне слизывающей с сухого асфальта капли тающего мороженого. Она, должно быть, пролезла в комнату через открытое окно. Я резко сбросил с себя одеяло вместе с кошкой и содрогнулся от отвращения, когда услышал сухой стук кошачьих лап по подоконнику. Животное исчезло в темном проёме окна. Я жил с родителями на восьмом этаже. Но, уверен, летящая с тридцатиметровой высоты лапами вниз кошка вряд ли была причиной охватившего меня ужаса. Так же, как не мог быть его причиной и страх смерти – он возник уже позже. Можно, конечно, сослаться на присущее мне преувеличенное чувство вины. Но такого рода объяснение вряд ли может считаться верным в моём случае. Ужас был непривычно сильный, а к чувству вины я привык, так как испытывал его с пятилетнего возраста.
Устройство издало звук механического удовлетворения, затем раздался глухой, едва различимый щелчок, и все отключилось. Спустя несколько секунд прекратил свою работу и вентилятор в углу комнаты, шум которого я не замечал до этой минуты. Адвокат приподнялся со стула, пожал мне руку и сказал:
– Второй сеанс психоаналитического сопровождения успешно завершён. Благодарю вас за проявленное усердие.
Произнесено это было развязным голосом, с оттенком нарочитой небрежности.


