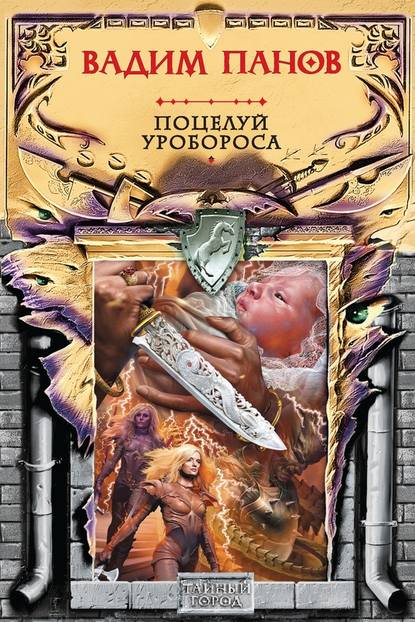Полная версия:
Вадим Юрьевич Панов Девочка с куклами
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Вадим Юрьевич Панов
Девочка с куклами
© В. Панов, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
С искренней благодарностью Д. А. Малкину, врачу-психиатру, к.м.н., за советы и поддержку
Десять лет назад

Во сне ты не спишь.
Во сне ты живёшь.
Проживаешь то, чего хотел или, наоборот, от чего бежал со всех ног – мечты и кошмары, то, чего желаешь обрести всей душой или надеешься никогда не испытать. В той части жизни, которая называется реальностью. В той, что за пределами сна, в той, в которой ты считаешь, что осознаёшь происходящее вокруг. И даже немного управляешь происходящим.
А ещё во сне ты видишь себя таким, каким не хотел бы видеть – без маски, и остро ощущаешь все переживаемые чувства, даже постыдные, те, которые прячешь или отвергаешь в реальности. Во сне ты лишаешься привычной защиты и становишься необыкновенно искренним, как в детстве. Во сне ты такой, какой есть, и многих из нас это пугает.
Возможно, и тебя…
Но ты не можешь ничего изменить, не можешь покинуть сон – только проснуться; не можешь стать сторонним наблюдателем, не можешь смотреть свою историю, как кино, потому что каким бы странным или страшным ни был сон, ты – его обязательная, гармоничная часть. Самая важная часть, поскольку без тебя сей мир не существует. Без тебя та часть жизни, что называется сном, рассыпается на бессмысленные фрагменты. И быстро исчезает.
Сон – это идеальный авторский мир. Без тебя его нет.
Но иногда бывает так, что Создатель сна умирает в нём. В своём уникальном авторском мире. Умирает в той части жизни, которую называют нереальной. Сердце продолжает стучать, кровь – течь по жилам, дыхание не исчезает, он продолжает лежать на кровати, но там, внутри сна, Создатель авторского мира только что умер.
С тобой такое было?
Или ты успевал проснуться? За мгновение до того, как осознавал свою смерть – во сне. Почти все успевают, поскольку, даже пребывая в нереальности, мы инстинктивно выбираем жизнь. Таков закон. Даже в нереальности мы не хотим переживать то, что однажды произойдёт. И чувствуя, что вот-вот умрём, вскрикиваем, просыпаемся. И поднимаемся с кровати, чтобы попить воды. И снова ложимся, надеясь, что кошмар не вернётся. Никогда. И он не возвращается. Почти никогда. Кошмар исчезает, оставив после себя лишь короткий шлейф – дурное настроение, что развеется к середине дня. Иногда, очень редко, скомканное воспоминание о том, что было. Но иногда. Кошмар остаётся в прошлом, потому что ты успел проснуться.
А если нет?
Если инстинкты дали сбой и ты не успел? Если в точности увидел свою смерть и даже почувствовал её? Там, в нереальности. Потом проснулся в ужасе, мечтая лишь о том, чтобы этот кошмар рассеялся, как остальные, но мечтам не суждено сбыться. Закон оказался нарушен, другие возможные миры теряют смысл – даже во сне, ведь авторские миры способны создавать только живые. И к тебе вновь и вновь возвращается тот сон, в котором ты умер. Возвращается, как старый пёс на кладбище, не понимающий, зачем хозяин спрятался под этот крест? И ты раз за разом смотришь, как умер. Наблюдаешь со стороны. Проживаешь изнутри. Раз за разом погружаешься в свой собственный авторский мир, который раз за разом заставляет тебя проходить через смерть. Через твою смерть. Заставляет переживать её с такими точными и яркими подробностями, что тебе не кажется, что ты её переживаешь. Тебе кажется, что ты её умираешь. Раз за разом. Без возможности отогнать старого пса. Без возможности проснуться, когда проснуться необходимо. Зная о своей смерти всё.
Что происходит, если ты не успел вовремя проснуться?
Жив ли ты, если умер в авторском мире? Или смерть по-настоящему приходит даже там, в нереальности, и обращает дальнейшее существование в агонию? В отчаянную и безнадёжную попытку изменить то, что изменить невозможно? И следующие видения уже не сны, а воспоминания?
Воспоминания мертвеца.
Воспоминания о том, как всё закончилось: пусть во сне, но навсегда. Воспоминания из того отрезка жизни, который мы называем нереальным. И невозможно понять, это уже случилось? Здесь, в реальности. Или только произойдёт? И невозможно понять, что есть реальность, если отчётливо помнишь, как опускаешься ниже мягких, едва заметных волн. Тёплых, морских, очень солёных волн, в которых так приятно нежиться, лёжа на спине и глядя в ясное небо… по которым так приятно плавать, весело отфыркиваясь, когда волна ударяет в лицо… которые игриво накрывают тебя с головой… и предлагают остаться с ними… поиграть подольше… предлагают ненавязчиво, но держат крепко. И вскоре ты понимаешь, что невозможно вырваться из их тёплых, необыкновенно приятных объятий. В которых так уютно и покойно…
Ты понимаешь, но всё равно пытаешься.
У тебя не получается. В этом авторском мире ты почему-то не способен сопротивляться, не можешь взмахнуть руками с достаточной силой, не можешь оттолкнуться ногами, вылететь на поверхность и задышать, с неистовой жадностью глотая весь воздух мира. Настоящего мира. Ты не знаешь, почему не способен. Ты умеешь плавать, но не здесь. Ты силён и уверен в себе, но не здесь. Ты понимаешь, что нужно дышать, но сейчас дышать – непозволительная роскошь. В этом мире.
Реальном или нет?
Грудь разрывает, но ты не можешь ничего поделать.
Волны кувыркаются над головой, ты видишь яркий свет мира, в котором дышать не роскошь, а обыденность, но не можешь ничего поделать. Не можешь преодолеть сантиметры, отделяющие тебя от всего воздуха мира. И тебя накрывает предсмертная беспомощность, как волны – с головой. Ты ещё не сдался, но уже знаешь, что не победишь. Надо бороться, но опускаются руки. Тебя убивает мир, созданный тобой, твой собственный мир. Который ты не в состоянии превозмочь. Ты в ловушке невообразимо реальной нереальности и кричишь, глядя на проплывающих людей. Проплывающих над твоей головой. Таких близких людей. Таких далёких. Наслаждающихся тёплыми волнами и не знающих, что ты умираешь. Ты кричишь, но крик никто не слышит.
Вода уже внутри.
И предсмертная беспомощность сменяется предсмертным ужасом. А страх убивает быстрее воды, быстрее клинка, быстрее огня – быстрее всего на свете. Ты понимаешь, что чуда не случится и силы не появятся. Ты не выплывешь, потому что вода внутри. А до волн, которые над головой, уже метры. Ты опускаешься всё ниже и ниже, объятия воды больше не приятны, они рвут тебя изнутри, но это не важно. Теперь не важно. Ты видишь себя со стороны, с открытым ртом, выпученными глазами и поднимающимися вверх волосами, и переживаешь странную смесь чувств: ужас, отвращение, сожаление и грусть. Ты не хочешь видеть себя. Ты понимаешь, что никогда не увидишь ничего более важного, поэтому смотришь во все глаза. На себя. Боясь пропустить хоть мгновение.
Смотришь на себя.
Смотришь до тех пор, пока не опускаешься на дно, устраиваясь меж камней. Смотришь, как возвращаются распуганные рыбы и начинают рассматривать тебя так, как рассматриваешь себя ты. Смотришь на своё лицо и не узнаешь его. Ты знаешь, что это ты, но не узнаёшь. Ты стал другим.
Ты стал мёртвым.
И только тогда ты просыпаешься.
От дикого ужаса.
От ощущения, что всё действительно случилось.
Просыпаешься в кровати, в тысячах километрах от тёплого моря, просыпаешься с криком. И кричишь до тех пор, пока не понимаешь, что лёгкие не заполнены водой. Иначе ты не смог бы кричать. Даже во сне. А ты кричишь до тех пор, пока не понимаешь, что можешь кричать. Что можешь дышать.
Можешь…
И это не роскошь – это обыденность.
Ты жадно дышишь до тех пор, пока сердце не перестаёт колотиться, потом переворачиваешься на спину и смотришь в потолок. Ты уже знаешь, что смерть была сном, но дыхание твоё до сих пор не совсем спокойно. Тебя потряхивает и чувства пребывают в смятении. Тебе страшно, как никогда раньше, страшно даже сейчас, когда ты знаешь, что всё это было сном. И ещё ты знаешь, что так страшно тебе никогда больше не будет – потому что всё уже случилось. Потому что пережить такое можно только раз – в мельчайших деталях, со всеми подробностями.
Смерть.
Теперь ты знаешь, каково это. Но ещё не знаешь, что сон будет возвращаться – воспоминаниями мертвеца. Смерть будет приходить множество раз.
И тем сводить тебя с ума.
17 февраля, пятница
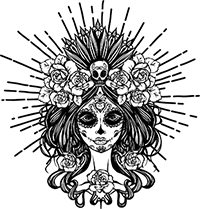
– Таким образом, дело раскрыто, и если вы рисуете на фюзеляже звёздочки, то сейчас самое время доставать баночку с краской. – Амир Анзоров рассмеялся и потёр ладони. – С вами приятно работать.
– Спасибо. – Вербин кивнул и улыбнулся.
Феликсу нравилось, что у следователя хорошее настроение, однако сам он прыгать от радости не собирался. Доволен? Да. Убийство раскрыто, доказательства собраны железобетонные, ни один адвокат преступнику не поможет. Дополнительный приятный бонус – понадобилась всего неделя, не так быстро, как в кино, но всё равно неплохо. Судя по радости Анзорова, Следственный комитет, во всяком случае в его лице, выражает полнейшее удовлетворение. С этим делом всё закончилось.
Для полицейских.
А тридцатипятилетний Феликс Вербин был именно полицейским – майором, старшим оперуполномоченным по особо важным делам, и в последнее время – после дела Кровососа – ему частенько доводилось работать с Анзоровым. Как пошутил начальник Вербина, подполковник Шиповник: «Вы друг к другу притёрлись, вот и крутитесь дальше, как карданный вал с редуктором». Они и крутились. Стали говорить друг другу «ты», хотя, как подметил Феликс, других оперов, даже «важняков», Анзоров по-прежнему держал на расстоянии «вы». Стали вроде доверять друг другу… ну, насколько это возможно между следователем и опером. Семьями не дружили – её у Вербина не было. А была бы – не факт, что стали бы дружить. С другой стороны, кто знает? Анзоров явно выделял и Вербина, и Шиповника, и, если была возможность, сам приезжал на Петровку. Только вот в сегодняшнем его появлении смысла не было. О том, что убийца дал признательные показания, опера знали, а похвалить их следователь мог и по телефону. Но Анзоров приехал. А значит, как поняли полицейские, ему что-то было нужно, и судя по тому, что просьба до сих пор не была произнесена, речь шла об услуге. Возможно, о личной. А поскольку с такими просьбами следователю обращаться ещё не доводилось, он несколько смущался. Полицейские, в свою очередь, навязываться не собирались. Отношения у них, конечно, хорошие, но первым должен сказать тот, кому надо, поэтому молчали, не помогали перевести разговор на другую тему. Анзоров правила знал, но мялся. И мялся до тех пор, пока начальник отдела не решил, что времени на смущённого следователя потрачено достаточно.
– На этом, как я понимаю, всё? – Тон, которым Шиповник произнёс фразу, чётко показывал, что от подполковника не ускользнули владеющие следователем сомнения, и он предлагает не морочить занятым людям голову, а откровенно рассказать, чего ему ещё нужно.
Анзоров намёк уловил, всё-таки не первый день знакомы, но не удержался от шутки:
– Заметно?
– Амир, ты правильно сделал, что не пошёл учиться на актёра. – Некоторое время назад Шиповник как-то незаметно и очень естественно стал говорить Анзорову «ты». Следователь не возразил, но сам остался с подполковником на «вы». Которое иногда звучало как «ты». Но именно иногда – Анзоров чётко дал понять, что уважает возраст и опыт Шиповника.
– Егор Петрович, давайте не будем переходить на личности. Потому что хороший следователь должен уметь играть. – И хмыкнул, разглядывая полицейских, не сговариваясь изобразивших на лицах скептическое выражение: – Я знал, что на эту реплику вы отреагируете именно так.
– Не верю, – качнул головой Шиповник. И посмотрел на подчинённых: – А вы?
– Мы тут младшие по званию, – сообщил капитан Колыванов, самый молодой участник совещания. – Так что будем помалкивать.
Вербин улыбкой поддержал напарника и едва заметно поднял брови, показывая Анзорову, что шутки шутками, но намёк на то, что у людей полно дел, всё ещё актуален.
– Мне нужна небольшая услуга…
– Что-то потерял и нужно найти? – Колыванову показалось, что фраза прозвучит смешно, но он ошибся, поймал на себе недоуменные взгляды коллег, пробормотал: «Извините», – и надолго замолчал.
– В одном округе странная ситуация возникла, – продолжил Анзоров, глядя подполковнику в глаза. – Хочу, чтобы опытный человек посмотрел, что к чему, и решил, нужно там упираться или нет?
– Что за ситуация? – поинтересовался Шиповник.
Но поинтересовался подполковник негромко, следователь вопрос не расслышал и закончил:
– И я думаю, дело вам понравится. Правда, оно пока не открыто, доследственная идёт… И это один из моментов, который нужно прояснить: есть ли там дело? Потому что местные упорно твердят, что нет.
– То есть, дела нет, но ты уверен, что оно нам понравится? – уточнил Шиповник.
– Ну, может, не вам, Егор Петрович, но Феликсу – точно.
– Всем нравится, когда выясняется, что дела нет, – подал голос Вербин. – Особенно – следователям.
– Ты не такой как все, тебе нравятся запутанные дела.
– У меня настолько плохая репутация? – пошутил Феликс.
– У тебя прекрасная репутация, – серьёзно и без лести произнёс Анзоров. – Кстати, знакомые из «конторы» о тебе лестно отзываются. Работу не предлагали?
– Видимо, забыли.
– Кто его отпустит? – проворчал Шиповник и покосился на Феликса: – А ты не зазнавайся, потому что если зазнаешься – я сам тебя выгоню.
– Прямо на улицу?
– Прямо на улицу и даже босиком.
– Нельзя причинять подчинённым такие страдания.
– Некоторым – можно. – Подполковник повернулся к следователю: – Так в чём проблема?
– Есть ли там проблема, а точнее – дело, вы мне скажете, – повторил Анзоров. – А тема такая. Пару дней назад в запертой квартире обнаружили тело молодой девушки. Двадцать два года. В квартире полный порядок, следы борьбы и насилия отсутствуют. Девушка полулежала на неразобранной кровати в расслабленной позе. Рядом – пустой шприц, на котором только её отпечатки.
– Передоз? – угрюмо спросил Шиповник.
– По всем признакам.
– Токсикологии ещё не было? – понял Вербин.
– Предварительный вывод – передоз, все признаки в полный рост. Но мы с вами понимаем, что токсикология покажет передоз независимо от того, убийство там или самоубийство.
– Ну да, – согласился Феликс. – И следов борьбы нет…
– Нет.
– То есть оснований для подозрений никаких? – вздохнул Колыванов.
– Никаких, – подтвердил Анзоров.
– Девчонка кололась?
– Нет, законопослушный и даже примерный член общества, без каких-либо житейских неприятностей и уж тем более – проблем с законом. Участковому в поле зрения не попадалась. – Следователь выдержал короткую паузу: – По всем признакам – самоубийство, но местный опер не соглашается.
– На каком основании? – спросил Колыванов.
– Если девочка была хорошей, то опер мог зацепиться за сто десятую[1], – прикинул Шиповник.
– Проверяем, но по первым результатам тоже мимо.
– Тогда почему опер брыкается?
– Он молодой, – ответил следователь так, словно это всё объясняло.
С другой стороны, это действительно всё объясняло.
– Совсем зелёный?
– Да.
– И поэтому готов идти до конца, отстаивая свою точку зрения? – задумчиво протянул Вербин.
Анзоров бросил на Феликса долгий взгляд, а затем улыбнулся:
– Сам таким был?
– Почему был?
– Ну да… – На этот раз следователь коротко рассмеялся. – Ты таким остался.
– Разве это плохо?
Все они когда-то были молоды и с азартом брались за любое дело, искренне веря в торжество справедливости для честных граждан и неизбежность наказания для преступников. Все они были так сильно увлечены, что иногда видели чёрную кошку там, где её не было и быть не могло, но они верили – есть. И упрямо шли напролом, стремясь доказать свою правоту. И бывало, крепко получали по шапке, впитывая такую простую и одновременно такую сложную истину, что не в каждой тёмной комнате прячется чёрная кошка. Зато в каждом расследовании фигурируют люди, играть судьбами которых ты не имеешь права. И это понимание – ответственности, отлично помогает избавиться от юношеского максимализма. Но, к сожалению, и от азарта тоже. Приходит спокойствие. У кого-то – циничное, у кого-то – прагматичное. Приходит опыт, ты видишь больше, а работаешь – аккуратнее. Но грош тебе цена, если понимание ответственности полностью уничтожит в тебе охотничий азарт и желание докапываться до сути, а не просто закрыть дело. А ведь уничтожает. Не у всех, но у многих. И полицейские поняли, что Анзоров хочет прикрыть молодого опера от коллег, с которыми он вошёл в клинч, и отправить опытного Вербина разрулить ситуацию: если есть дело – открыть, если нет – помирить парня с начальством. Ну, или попробовать помирить. И желание это полицейским понравилось.
Вербин и Шиповник переглянулись, после чего подполковник попросил:
– Амир, расскажи об опере.
– Его зовут Крылов, Иван Крылов.
– Ты шутишь? – не удержался Вербин.
– Почему? – не понял Анзоров. – Обыкновенная фамилия, что в ней смешного?
Колыванов промолчал, а вот на губах Шиповника Феликс разглядел едва заметную улыбку. Вздохнул и ответил:
– Извини, ничего особенного, просто слышал о человеке с таким же именем.
– А… что за человек?
– Умер давно.
– Тогда ладно.
Шиповник закусил губу, но сумел сдержаться. Выдержал очень короткую паузу, нужную, чтобы справиться с голосом, и вернулся к делу:
– Если всё так гладко, как ты рассказал, за что опер цепляется?
– Там какая-то мутная история с дневником, – неохотно ответил Анзоров.
– То есть ты не вникал? – удивился подполковник.
– Вникал-вникал, – проворчал следователь. – Если бы не вникал – к вам бы не пришёл, я ведь знаю, что вы сразу начнёте задавать каверзные вопросы.
И по тому, как он себя вёл, Вербин понял, что Анзоров пребывает не в своей тарелке. Следователь верил в резоны молодого оперативника, иначе не обратился бы к полицейским с деликатной просьбой, но при этом Анзорова что-то сильно смущало и вызывало неловкость. Следователь походил на человека, действительно видевшего в старинном замке привидение, но неожиданно сообразившего, как странно рассказ о встрече выглядит со стороны. Для неверующих и скептиков.
Однако деваться Анзорову было некуда, поэтому он вздохнул и продолжил:
– В квартире мы обнаружили дневник девчонки, в котором она описала, как умрёт.
– Что значит «как умрёт»? – не понял Феликс.
– Сама написала? – прищурился Шиповник.
– Почерк её, экспертиза уже подтвердила. Да и запись старая, ей несколько месяцев.
– Так. – Подполковник посмотрел на Вербина, Вербин слегка пожал плечами, показывая, что хотел бы услышать чуть больше, и повторил:
– Что значит «как умрёт»?
– Там полно совпадений, – рассказал Анзоров. – Девчонка подробно описала, как будет выглядеть комната, когда мы в неё войдём, как будет выглядеть она сама, и добавила, что видит себя умершей от передоза четырнадцатого февраля, в День всех влюблённых. Дословная цитата: «Всем любовь, а мне – смерть. Почему жизнь так несправедлива?»
– И вы нашли её четырнадцатого?
– Да.
Шиповник и Вербин вновь переглянулись, после чего подполковник усмехнулся:
– Это явно по твоей части, Феликс.
– У неё была несчастная любовь? – поинтересовался Колыванов. – Болезненный разрыв?
– Если несчастная любовь случилась несколько месяцев назад, информация о ней вряд ли нам поможет, – заметил Шиповник.
– Не факт, – протянул Вербин. – Некоторые раны затягиваются долго, а некоторые – не затягиваются никогда.
– С несчастной любовью ещё предстоит разобраться – если решим открывать дело, – ответил Анзоров. – На сегодня я считаю главным фактом тот, что девочка детально и очень подробно описала, как именно её найдут – и всё, чёрт возьми, совпало!
– В этом как раз нет ничего странного, – обронил Феликс.
– Если убийство, – эхом добавил Шиповник.
– Получается, убийца прочитал дневник и решил использовать фобию будущей жертвы, чтобы скрыть преступление? – понял Колыванов. – Замаскировать убийство под самоубийство?
– Тут есть над чем подумать, – проворчал Вербин.
– Ещё как.
– Значит, убийца совсем рядом.
– Нужно проверить, кто имел доступ к дневнику. Или кому жертва рассказывала о своих фантазиях. – Шиповник покосился на Анзорова: – Схема действий проста и понятна, пацан наверняка справится. Мы тебе зачем?
Следователь вздохнул.
– На сегодня получается так, Егор Петрович: Крылов не верит в самоубийство, я не верю в доведение до самоубийства, а местное начальство…
– Местное начальство не верит в убийство, – понял Вербин.
– Или не хочет верить, – уточнил Анзоров.
Объяснять ничего не требовалось – кому охота вешать себе на шею потенциальный «висяк»? Проверку ребята «с земли» проведут, но прислушаются они к тем свидетелям, которые прямо или косвенно подтвердят версию самоубийства, после чего «с чистой совестью» забудут о несчастной девочке.
– Вот я и хочу, чтобы Феликс опытным взглядом посмотрел на материалы. – Теперь Анзоров обращался к Шиповнику, как к старшему среди полицейских. – А там уж как решит. Скажет суицид – будет суицид. Если появятся весомые подозрения – я открою дело. В этих вопросах я Феликсу доверяю.
– У тебя ещё доследственная?
– Да. Если нужно, я её продлю.
– Хорошо. – Шиповник перевёл взгляд на Вербина. – А ты что скажешь? Любитель головоломок, чтоб тебя.
– Впереди выходные, Егор Петрович, время у меня будет, так что могу съездить и посмотреть, что там к чему.
– Вот и хорошо! – воскликнул следователь так, словно они уже пришли к соглашению. – Не сомневался, что ты заинтересуешься.
– Ещё нет, – качнул головой Феликс.
– Да ладно, а то я тебя не знаю. Ты как услышал, что девчонка свою смерть предсказала – сразу стойку принял. Потом ещё благодарить будешь за интересное дело. – Настроение Анзорова заметно улучшилось. – Вот начальные материалы… – Следователь положил на стол бумажный пакет и флешку. – А я побежал.
Попрощался и выскочил за дверь, оставив полицейских в некотором недоумении. Несколько секунд в помещении царила тишина, после чего Шиповник медленно протянул:
– Он чего-то недоговаривает.
И опера дружно кивнули.
– Хотите сказать, что я зря согласился? – тихо поинтересовался Вербин.
– Нет, – ответил подполковник. И тут же уточнил: – Если там убийство – нет. Но когда будешь осматриваться, держи в голове, что Анзоров недоговаривает.
– Не думаю, что он хочет нас подставить, – помолчав, произнёс Феликс.
– Я тоже, – согласился Шиповник. – Но о чём-то он промолчал.
– Пока промолчал.
– Так что будь осторожнее.
– Хорошо, Егор Петрович, обещаю.
– А мне что делать? – осведомился всеми забытый Колыванов.
– А у тебя впереди выходные – наслаждайся.
Из дневника Виктории Рыковой«Вот уже неделю я не тороплюсь домой.
Я написала эту фразу, перечитала, потом перечитала снова и… не заплакала. Я была уверена, что не удержусь, но слёзы, наверное, закончились, осталась только горечь, а она не льётся слезами. Горечь живёт внутри и делает горьким всё вокруг – на вкус и ощущения. А ещё – серым, на взгляд и ощущения. А всё, что я делаю, горечь превращает в постылую механику: работа кажется скучной, еда безвкусной, а все совершаемые движения: готовка еды, поездки на работу и обратно, сидение перед компьютером, болтовня по телефону, даже просто дойти до кухни – всё кажется унылой механикой.
Я стала куклой.
Я стала абсолютной куклой, и теперь моя кожа – пластик. Она по-прежнему состоит из эпидермиса, потовых желёз и всего остального, что я забыла упомянуть, потому что уроки анатомии остались в далёком прошлом. В далёкой школе. Моя кожа прежняя, молодая, бархатистая, но я уверена, что если уколюсь, то не почувствую боли.
Ведь куклы не чувствуют боли.
А почему они не чувствуют боли? Вдруг потому, что внутри кукол – горечь? А не пустота, как мы думаем. Вдруг куклы знают, что они – куклы, и это знание делает их мир горьким. А не пустым. А нам остаётся лишь догадываться, что скрывают куклы. Ведь они молчат. Даже те, которые умеют говорить, – молчат. Что бы они ни говорили, они молчат о главном. Точно так же, как я: говорю со многими людьми – преподавателями, коллегами, подругами, родными… Но молчу о главном.
И в этом я – абсолютно кукла, которую все вокруг принимают за человека. Со мной разговаривают – я отвечаю, причём всегда по делу. Я не рассеянна. И обязательно смеюсь, когда слышу шутку. Острая стадия осталась позади, все считают меня нормальной, но внутри меня горечь, которая делает меня пустой, а значит, я – абсолютно кукла…»