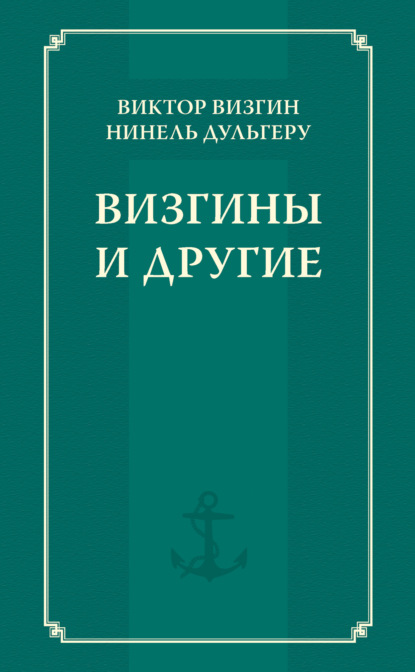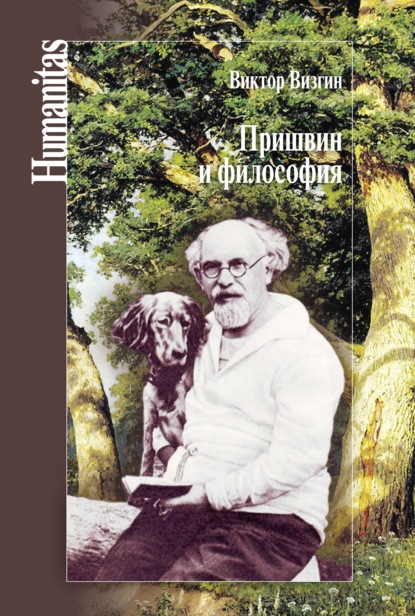- Рейтинг Литрес:5
- Рейтинг Livelib:3.3
Полная версия:
Виктор Павлович Визгин Философия науки Гастона Башляра
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Виктор Визгин
Философия науки Гастона Башляра
© С. Я. Левит, составление серии, 2013
© В. П. Визгин, 2013
© Центр гуманитарных инициатив, 2013
Введение
Мы философствуем, когда осмеливаемся говорить, соотносясь с Целым. Это соотнесение для того, чтобы выступить условием философской речи, должно быть осознанным и понятийным – рефлексивным. То, что мы при этом говорим, никак не может нравиться всем, так как модальность нашей речи, ориентированной установкой на Целое, неминуемо «партикулярна». У других людей ведь иная точка зрения, другой взгляд на вещи, иное соотнесение с Целым. Попросту говоря, у людей разные мировоззрения и разные философии. И поэтому попасть в «философию всех» мы даже при всем желании вряд ли можем, так как ее, кажется, просто не существует или, точнее, вряд ли она может существовать. Но не говорить, «односторонне» соотносясь с Целым, с тем, что по определению односторонним не является, философ как философ не может. Будучи рационально, в понятиях рассуждающим «представителем» Целого (т. е. тем, кто его, Целое, так или иначе представляет для себя и других), философ поступать иначе не может, так как именно этим он подтверждает свое предназначение быть философом.
Исходя из такого представления о назначении философа, признать Гастона Башляра (1884–1962) философом не просто. Приведем свидетельство Рене Пуарье, его ученика и друга, сравнивающего известных французских философов тех лет со своим учителем: «Бергсон, Тейяр де Шарден, Эдуард Ле Руа[1] и многие другие открыто ставят проблему бытия, проблему духа в его отношении к телу, рассматривается ли при этом дух как сознание или как активность или как моральная личность. У этих философов вопросы о душе и теле, об эволюции и конечной цели, о «Я» и его динамизме стоят на первом плане, в то время как Башляр выносит их за скобки… Эта установка у него расширяется и переходит в отказ от всех метафизических или этических проблем, от всех онтологических или аксиологических трансценденций (au-dela2).
Таким образом, нет проблемы Бога, нет проблемы мира, «Я», субъекта и ментальных интенций. Но что тогда остается на эпистемологическом уровне? Прежде всего интеллектуальная антропология, описание и педагогика научного разума» [108, с. 20–22]. Сказано, может быть, чрезмерно жестко, но ситуация взвешена в целом правильно. У Башляра, действительно, нет ни эксплицитной онтологии, ни явно выраженной метафизики. Правда, некоторые исследователи, как, например, Клеманс Рамну, пытаются реконструировать его онтологию, но делают это по косвенным намекам, по отдельным словоупотреблениям термина «бытие» в некоторых его текстах, кстати, не эпистемологических, а посвященных анализу воображения и поэзии [112]. Ситуация проясняется, если мы вспомним, что творчество Башляра почти симметрично делится на две половинки – на эпистемологию, с одной стороны, и эстетику и критику – с другой. Уже сам факт этой двуполюсности позволяет нам предположить, что мыслитель в своей антропологии видел человека принципиально двойственным по природе – человеком «дня» или (научного) разума и человеком «ночи» или (ненаучного) воображения. В своих эпистемологических работах Башляр редко говорит о воображении, а если и говорит, то, как правило, как о препятствии научному духу. В них он, напротив, подчеркивает чистоту рациональности современной науки: «Спин мыслим, но ни в коем случае не воображаем» [3, с. 121].
Удивительны и мировоззренческие «качели» в этих явно контрастных частях его творчества. Так, в эпистемологических работах, упоминая порой воображение, Башляр склоняется чуть ли не к вульгарному физиологическому материализму («не следует забывать, что процесс воображения непосредственно связан с сетчаткой, а не с чем-то мистическим и всемогущим» [там же, с. 121]), в то время как в работах по поэтике он, напротив, как раз склонен к романтическому наделению воображения миросозидающей силой[2]. Не пытаясь сейчас как-то объяснить это расхождение, зафиксируем несомненную и осознанную интенцию Башляра максимально развести разум и воображение: «Оси науки и поэзии противоположны» [63, с. 46], «научная установка состоит именно в том, чтобы сопротивляться наваждению символа» [60, с. 49], «научное понятие функционирует тем лучше, чем оно полнее освобождено от всего образного фона» [59, с. 14]. Рациональная активность и поэтическая грёза как день и ночь контрастно чередуются резким, несмешиваемым ритмом в его творчестве. Герменевтам-башляроведам мыслитель с площади Мобер[3] задал трудную задачу. Одни из них, например Ж.-К. Марголен, считают, что Башляр «в силе воображения открыл общий источник как научного открытия, так и художественного творчества» [105, с. 9]. На сходной позиции стоит и Мэри Мак Аллестер, полагающая, что для поэзии и для науки у Башляра находится общий знаменатель – человеческая креативность, несущая с собой общий для творческой установки мир ценностей [102, с. 98]. Но большинство исследователей творчества мыслителя доверяют ему самому, всегда подчеркивавшему, что между научным разумом и вненаучным воображением имеется непреодолимый разрыв. «Мои исследования по эпистемологии, – говорит Башляр, – не имеют ничего общего с проблемой воображения. И я не устаю вызывающе отвечать на обращенный ко мне вопрос: “А как обстоит дело с математическим воображением?”, подчеркивая, что если и имеется математическое воображение, то его надо называть совсем иначе, чем воображение» [102, с. 142]. В «Философии “не”» (так мы предпочитаем переводить название переведенной на русский язык [3] книги Башляра «Philosophie du non» [56]) Башляр тем не менее признает, что в науке есть мечта (и воображение). Но она, во-первых, радикально отлична от обычной, и, во-вторых, есть просто-напросто стремление к математизации естествознания: «Мистическая мечта в ее современном научном проявлении имеет, на наш взгляд, отношение прежде всего к математике. Она стремится к большей математизации, к образованию более сложных математических функций» [3, с. 189].
Итак, возвращаясь к нашему определению предназначения философа, мы видим, что Целое, т. е, то, что, как подразумевается, стоит за этим круговоротом дней и ночей, разума науки и воображения поэзии, не стало по крайней мере осознанным предметом мысли в творчестве Башляра. И именно поэтому мы сказали, что не просто признать его философом. Эпистемолог, теоретик поэзии, историк науки – несомненно. Но тем не менее сама интуиция разума и науки у него такова, что, даже опираясь только на одну, эпистемологическую, половину его творчества, мы не можем не признать Башляра-эпистемолога философом. Почему? Да прежде всего потому, что именно в научной мысли, в разуме, в рациональности Башляр и видел Целое! Башляр относился к Разуму и Науке как к предметам самого вдохновенного, почти религиозного культа. Самая простая практика современной науки вызывала у него прилив энтузиазма, лиризма, священнослужительского восторга.
У этого мыслителя, напрочь забывшего, казалось бы, все метафизические, религиозные, онтологические, космологические и этические проблемы, была самая настоящая вера в Науку и Разум. «В нем чувствовался апостол, отец Церкви, апологет, проповедник. Он заставляет меня вспомнить св. Бернара с его проповедями по поводу библейской “Песни песней”, но его, Башляра, “Песней” была Наука и этой наукой он восхищался, и когда ее критиковали, его главной темой была ее защита, и он ее тогда защищал, говоря, что ее не понимают» [108, с. 14].
Как эпистемолог Башляр уже имел в виду Целое, относился к Целому, отождествляя его с Наукой. Разум и наука кажутся нам всегда не-целыми и не-цельными, конечными потому, что мы их привычно связываем с границами и пределами, с постулатами и исключениями. Но для Башляра научный разум был живым, динамическим, самотранцендирующим началом, т. е. открытым целым в сфере мысли, труда, истории, то есть того, что лучше всего назвать, пожалуй, цивилизацией (в западном новоевропейском смысле). Открытое Целое, незавершенное Целое (т. е. несовершенное Целое) – не противоречиво ли само это понятие? Да, Башляр в нем подходит к тому, чтобы вместо Бытия мыслить возможность и становление, вместо Единого – множественное, вместо Целого – фракционный, многоликий, региональный разум. Но как бы ни дробился образ Целого, мы тем не менее не можем не признать, что исходным началом все же было Целое.
Возвращаясь к метафоре дня и ночи, мы не можем не видеть, что день имеет перед ночью то преимущество, что он может обсуждать и понимать не только себя, но и ночь. Ведь именно разум объясняет грёзы и распутывает хаос воображения. Именно разум толкует ночные сновидения и символы традиции. Башляр был воинствующим, непримиримым рационалистом, и это означает, что он был столь же жестким антитрадиционалистом. В плане культурологических предрасположенностей творческой личности эта характеристика Башляра-мыслителя представляется нам определяющей.
Башляр как личность и как интеллектуал был воспитан в ценностях республиканизма, демократии, в ценностях новой Франции. Его интерес к науке и поэзии не шел далеко вглубь истории. В противоположность многим своим современникам-философам, окончившим Высшую нормальную школу и получившим классическое философское образование, он был выходцем из провинции и хотя, сдавая агрегационный экзамен, показал знания латыни и греческого, но никогда ни Вергилий, ни трагики, ни греческие философы не были предметом его размышлений. Его эпоха начинается с Революции, с XIX века, науку и поэзию которого он знал превосходно, включая науку и поэзию XX века. Революция сделала культом Разум – и Башляр со всей страстностью натуры этот культ исповедовал, подчеркивая, что высшим началом для человека является не воля к власти, а воля к разуму: «Убеждать людей правотой вещей (avoir raison des hommes par les choses) – вот в чем высший успех или триумф, он не в воле к власти, а в воле к разуму (Wille zur Vernunft)» [55, с. 247].
Рационалист (вплоть до «сюррационализма»), прогрессист, модернист – все это – Башляр. И даже материалист! Пусть его материализм – это материализм рациональный, конструктивный, технический, даже «трансцендентальный» [70]. Да, такой материализм, как справедливо отмечает Пуарье [108, с. 23], отличается и от материализма Дидро и от материализма Геккеля и, наконец, от диалектического материализма, что отмечали, и не без сожаления, некоторые марксисты. В нем нет, увы, привычной для многих из них идеологической верности раз принятой догме. Его душа восхищается не принципом «объективной реальности, данной нам в ощущении», а феноменом науки, перешагивающей через саму себя, созидающей новый мир, опережающей реальность как данность, конструирующей новую действительность.
Итак, все равно материалист, хотя и в высшей степени рационалистический и активистский. Более того, в его творчестве мы не находим и проблемы Бога. Значит, возможно, и скорее всего еще и атеист… Да, Башляр сполна принадлежит той Франции, той части французской культуры, которую обозначают как республиканская. Для этой культуры характерны три ценностных «кита» (как в России «самодержавие, православие, народность»): наука, школа, общество. Башляр оставался верен этой «трилогии» светских и республиканских ценностей всю свою долгую жизнь провинциала-автодидакта на профессорской кафедре в Сорбонне [105, с. 111]. Ценности научной культуры, ценности просвещения, обучения (Школы) и, наконец, ценности гражданские и общественные – вот «арматура» этой личности, ее глубинные основы. Как культура соседней с Францией Испании делится на культуру Испании «черной» (Espan6a negra) и Испании «красной» (Espan6a roja), подобным же образом и культура Франции в первом приближении биполярна. И Башляр в ней явно и однозначно занимает левый – республиканский, светский, рационалистический и материалистический – полюс, которому противостоит Франция монархическая, традиционалистская, католическая, спиритуалистическая. С одной стороны, Франция Жозефа де Местра, с другой – Огюста Конта. И, несмотря на свою критику Конта (впрочем, к нему он относился всегда с большим уважением), Башляр во многом был его последователем. Да, он не был позитивистом и немало сделал для его преодоления в философии и истории науки. Но в своем рационализме, в своем педагогизме, в своем культе разума – открытого, активного, всемогущего – он оставался рядом с Контом, вместе с ним присоединяясь к традиции ученых и философов Франции, которым были близки ценности Школы и Науки (Л. Брюнсвик, А. Рей и др.).
Философия науки Башляра – докризисная. Я хочу сказать, что она создавалась в атмосфере увлечения наукой, ее захватывающими дух успехами. Проблемы кризиса науки и всей техногенной цивилизации у Башляра мы не найдем. Нет и других модных сегодня тем, связанных с наукой и осмыслением ее образа в обществе. Попытка счесть его предшественником методологического анархизма в духе П. Фейерабенда, на наш взгляд, натяжка [21, с. 9]. Однако основной пафос Башляра – пафос поисков новой рациональности, стоящей на уровне задач сегодняшнего и завтрашнего дня – нам близок как никогда. Нас не может не привлекать верность Башляра ценностям рационализма и науки. Да, многие из нас сегодня совсем иначе смотрят на традиционные ценности. Да, и на самом деле чисто модернистская антитрадиционалистская установка, видимо, исчерпала себя. Футуристическое богоборчество – тоже. Безоглядная и слепая вера в Прогресс – тоже. Мы понимаем сегодня, что основная трудность современного человека это – не столько покорение неизвестного в рациональных формах науки и техники, сколько реассимиляция прошлой культуры, исторических традиций, т. е, освоение и «приручение» старого известного. Башляр же, действительно, весь устремлен к рациональному покорению «нового неизвестного» (un nouvel l’inconnu) [61, с. 28].
Человек в интеллектуальной антропологии Башляра – познающее по своей природе существо. Для него нет задания более серьезного, чем познание именно нового неизвестного (математическое конструирование, забегающее «вперед» – основной его метод). Но, как мы считаем (и в этом наше несогласие с Башляром), человек сегодня видится нам уже неплохо овладевшим машиной познания неизвестного, с этим он, в принципе, справляется. Но вот гораздо хуже он научился подчинять разуму и стремлению к добру свои импульсы. Гораздо хуже он способен ассимилировать старое, традиционное, известное, хотя и забытое, превращая его в разум и добро поступков. Наклоняясь слишком далеко вперед в научно-технической активности, человек лишается опоры в традиции. Это как раз тот разрыв, который для Башляра был синонимом прогресса, а для нас он становится чуть ли не залогом регресса или упадка современного человека.
Может быть, ввиду сказанного, надо «сбросить» Башляра с «корабля современности»? Нет, этот футуристический жест мы считаем ошибкой. Башляр дорог нам своей верностью принятым идеалам, идеалам рационализма и гуманизма. Эти идеалы – не абсолюты, их конечность сегодня стала более явной. Но их ценность – пусть относительная – сохраняется и должна сохраняться хотя бы для того, чтобы избежать соблазнов дешевого иррационализма и базарной мистики.
* * *Замысел Башляра относительно философии можно себе представить таким образом: философия (имеется в виду правильная, современная, иными словами, искомая философия) есть особого рода чуткость разума к своей собственной подвижности, продуктивной по своей природе, несомненным центром которой для Башляра выступает наука, по преимуществу новая, современная наука. Хлопотливая, внимательная служанка науки? Если угодно, да. Именно такова роль, отводимая философии Башляром-эпистемологом. Действительно, поскольку научные дисциплины ведут себя в истории как своего рода аналоги биологических объектов (скрещиваясь, мутируя, претерпевая сложную динамику роста, замедления развития и т. п.), постольку и философия, для того, чтобы адекватно выразить такую природу науки, ее многообразное, разнородное, «ветвящееся» движение, обнаруживающее прерывистое дыхание живого разума (для его описания Башляр охотно использует такое выражение, как «диалектика»), должна точно так же быть фракционной, дифференциальной, дробной, проблемной, предельно открытой. Философия, таким образом, предстает как сверхчувствительный «гальванометр», отслеживающий в своем специальном языке тонкие ритмы научного эпистемогенеза.
Мы не можем принять такую, сциентоцентристскую, трактовку философии. На наш взгляд, как ни важна познавательная проблема как таковая (познают, кстати, не только в науке), но к ее анализу никак нельзя свести философию. В своей вере в науку (с большой буквы – в Науку!) Башляр, на наш взгляд, рискует утратить ту интуицию Целого, без которой нет философии. Схватить в философских понятиях творческую подвижность разума, действующего в науке, – это важная задача философии науки. Но само ее выполнение (к нему, конечно, вся философия никак не сводится), равно как уже и сама ее эксплицитная постановка, требуют как раз проработки в мысли той самой интуиции Целого, интенции на Целое, которые в ясной артикулированной форме отсутствуют у Башляра.
Башляр, однако, предпочел остаться, так сказать, с философским «нулем», т. е. без специально разработанной метафизики, фиксирующей позитивное высвечивание в эпистемологических понятиях Целого и Единого, но зато максимально чутким к созидающей новое вибрации научной мысли. Эта позиция сознательного, как бы аскетического воздержания от «глобалистских» интуиций при самом внимательном следовании за микродвижениями научного разума не может не вызвать наших поддержки и сочувствия именно потому, что в ней, конечно, опосредованно и неявно присутствует как раз именно то притяжение философа к Целому, без которого нет философии как любомудрия в понятиях.
Философия Башляра, таким образом, предстает как философия эпистемологической детали, живой познавательной «дроби». А ведь сама жизнь, по верному слову поэта, «как тишина осенняя подробна» [32, с. 111].
* * *Основным понятием философии науки Башляра выступает понятие прогресса. На наш взгляд, понятие прогресса требует возможности повышения ранга того относительного бытия, на уровне которого разыгрывается вся земная история. Вектор истории должен пересекать эквипотенциальные линии ценностного поля мироздания. В противном случае прогресс не имеет смысла, так как движение во времени без перехода с одного уровня бытийной структуры на другой, уровень большей ценности будет только имитацией настоящего прогресса, только его видимостью. Иными словами, в основе представления о прогрессе, по сути дела, лежит не только некий образ святыни, но и допущение, что приближение к ней в историческом мире человеческих деяний возможно.
Представление Башляра о прогрессе (а именно оно характеризует глубокий мировоззренческий уровень его личности) противоположно тому, о котором нам в виде притчи-сказки поведал Владимир Соловьёв [37]. По Соловьёву, весь прогресс в том, чтобы уважить старую и забытую святыню, бережно перенеся ее в будущее через бурные воды исторического потока. Башляр же, напротив, считает, что прогресс состоит в уважении святыни новой, что только новая ценность, созданная в Новое время (Наука), достойна уважения, обнаруживая которое, человек обеспечивает прогресс всей цивилизации. Ревностно служи Науке, неустанно изобретай новые ее формы, решай ее трудные проблемы, реализуй математическую мечту, предписывающую законы реальности – и спасешься! Спасешься именно в становлении, в прогрессе, в росте рациональных ценностей. Вот схема представления о прогрессе у Башляра. Неожиданное обобщение и расширение старой теории в новой, конструирование новых математических форм, свидетельствующих о торжестве абстрактного разума, все усиливающийся разрыв с миром обыденного опыта в новых конструкциях отвлеченной познающей мысли, служащей основой для новой технореальности – вот образ прогресса по Башляру. Каких-либо сомнений насчет возможных Чернобылей и Хиросим, вплетенных в этот процесс динамического и диалектического самодвижения открытого разума, у него не было. Так стоит ли сегодня вообще читать Башляра? Стоит ли читать этого модерниста и сциентиста после Чернобыля, после краха, кажется, всей прогрессистской и модернистской идеологии в социальном эксперименте XX века? Правильно ответить на этот серьезный вопрос нельзя, на наш взгляд, без понимания того, что секуляризованная европейская культура, начиная с эпохи Возрождения, не есть пустоцвет, не есть простой откат от старых святынь, не есть их однозначное забвение. Считать идеалы гуманизма, рационализма, свободы и прав человека лишенными метафизической и религиозной глубины было бы, особенно сегодня, большой ошибкой.
Действительно, парадоксально, но в самом антитрадиционализме мы видим (в его лучших образцах, по крайней мере) импульс к обретению традицией новых жизненных сил. Башляр – наследник антитрадиционалистских традиций Просвещения с его культом науки и разума. Мы знаем, к чему может привести разгул крайнего антитрадиционализма, своего рода позитивистический сциентистский фундаментализм. Но, как справедливо говорит Варшавский, написавший замечательную книгу-исповедь русского интеллектуала-эмигранта, «реакция против материализма и позитивизма не должна превращаться в реакцию против евангельского по своему происхождению реформаторского замысла просветительства, и она будет спасительной и созидательной, только если примет и сохранит этот замысел и все доброе, что было достигнуто в борьбе за его осуществление» [6, с. 383]. И в этой борьбе за разум и научное осознание самой науки Гастон Башляр сделал немало добрых дел. И как исследователь, и как преподаватель. Доброе в науке – это, прежде всего, сами научные истины, новые понятия и ходы мысли, это новые способы понимания мира и человека. И в этом смысле демагогическая сциентофобия, мизология, разумоненавистничество, т. е, весь тот иррационализм, который легко подхватывается модой и толпой, следующей за ней, вовсе не спасителен для потрясенного в своей наивной вере в науку человечества начала XXI века. Скорее, напротив, он опасен для него, так как может привести его к тому «новому Средневековью», в котором место истинной религии и чаемой теократии занимает, увы, идео-кратия расы или класса, крови или почвы.
* * *Итак, Башляр – рационалист. Но он весь устремлен к обновлению рационализма. Он стремится его раскупорить, сделать предельно раскрытым, гибким, динамическим и диалектическим. Для этого разум, по Башляру, должен пойти на выучку к современной науке, на ее передовые рубежи, в лабораторию и к теоретику. Новый рационализм, так он считал, эффективно работает в современной науке, но философы ничего или почти ничего об этом не знают. И поэтому он призывал философов учиться у ученых, у тех, кто делает науку сегодняшнего и завтрашнего дня. Как рационалист Башляр не столько сциентист, сколько сциентоцентрист. Наука для него – живой центр, подлинное средоточие всего динамического движения цивилизации.
Башляр – модернист. Модернист в том самом смысле, в каком он – антитрадиционалист, устремленный в будущее, в его конструирование научным разумом. Он, так сказать, научно-рационалистический футурист. Ему лично всегда был близок сюрреализм. Новая поэзия (символизм, футуризм и т. п.) привлекала его внимание как и новая наука. Обновленческий пульс современной цивилизации – пульс действительно учащенный и даже учащающийся и поэтому неудивительно, что сегодня он многими воспринимается как болезненный. Но для Башляра этот ускоряющийся ритм – норма. Норма для того идеала «открытого рационализма», который он проповедовал с такой страстью. Уловить этот ритм, отобразить его в понятиях – вот задача философа, по Башляру.
Башляр – гуманист. Пусть он и не сосредоточен на чтении античных авторов, как гуманисты итальянского Ренессанса. Он из тех гуманистов, для которых прежде всего Наука воплощает ценности европейского гуманизма. Его кажущийся шаржированным педагогизм («не школа для общества, а общество для Школы» [55, с. 252]) свидетельствует об этом. Ведь сам феномен республиканско-светской ментальности во Франции во многом держался именно за счет культа школы – новой, демократической, с обязательным преподаванием естественных наук и философии (тоже, конечно, на светский рационалистический лад, чему немало способствовал Виктор Кузен, верный ученик Гегеля[4]). Башляр – подвижник этой новой секуляризованной школы, аскет от науки, апостол научной культуры, чемпион самообразования, потрясающий книжник и прилежный читатель научной и поэтической литературы. Не получив в молодости стандартного философского образования в университете (в отличие от своих коллег-философов), он зато прошел трудную – и трудовую – практику жизни, сохраняя привычки и облик жизнерадостного провинциала из Шампани.
Вот кратко жизненный путь его: родился в местечке Бар-сюр-Об 27 июня 1884 г. Окончил местный коллеж, с 1902 г. – репетитор в коллеже Сезанн, а с 1903 по 1905 г. – сверхштатный служащий Почты в г. Ремиремоне. С 1905 по 1907 г. – военная служба конным телеграфистом, с 1907 по 1913 г. – почтовый служащий в Париже. 1912 г. – лиценциат по математике. 1913–1914 гг. – подготовка к экзаменам на инженера. С 1914 по 1919 г. – на передовой Первой мировой войны. Военный крест. 1920 г. – лиценциат по философии. 1922 г. – агреже по философии, преподает философию и продолжает преподавать физику и химию в коллеже Бар-сюр-Об, а в 1927 г. защищает в Сорбонне диссертацию, которой руководят Абель Рей и Леон Брюнсвик. С 1919 по 1930 г. преподает физику и химию в коллеже Бар-сюр-Об, затем профессор философии в Дижоне. А с 1940 по 1954 г. профессор Сорбонны (кафедра истории и философии науки) и одновременно директор Института истории науки. В 1951 г. получает орден Почетного легиона, в 1954 г. – почетный профессор Сорбонны, в 1961 г. – почетная Гран При в области литературы. Умер 16 октября 1962 г. За это время Башляром создано около 30 книг, причем объем печатной продукции почти симметрично делится между эпистемологией и теорией воображения и поэзии. Провинциал и аутсайдер в университетском мире, Башляр своим талантом и трудом завоевал репутацию первого эпистемолога Франции.