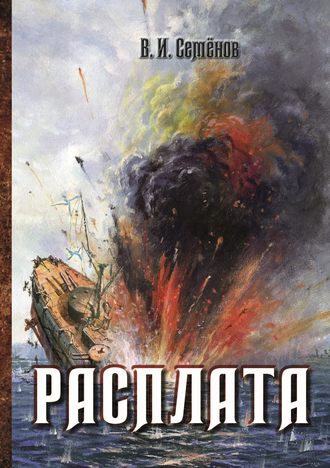
В. И. Семенов
Расплата
Г. не выворачивал чемоданов (у него у самого их не было), но зато выворачивал карманы, а когда содержимое их иссякло, принялся писать чеки, которые ходили в Манчжурии не хуже золота…
Перед отходом экспресса я обратился к нему с вопросом:
– Куда Вы теперь?
– С ними же, дальше…
Но тут мы на него напали и стали доказывать, что ехать на север ему нет расчета, но теперь-то и настало время, когда в Порт-Артуре дела делать, когда его присутствие там необходимо. Особенно настаивал полковник Л. Думаю, однако, все мы несколько лукавили, не столько заботились о выгодах Г., сколько хотели сохранить для себя очевидца событий, о которых, в пылу благотворительной горячки, не успели расспросить его толком.
Однако же Г. поначалу был неумолим.
– Нет, господа, война – ваше дело, а я штатский и смирный человек и совсем не хочу, чтобы меня зря убили. Поезжайте себе воевать, а я поеду туда, где безопаснее… Довод был убедительный, но его разбил начальник поезда (прапорщик запаса артиллерии).
– Поверьте, уважаемый М. А., – заявил он, – что пока наместник в Порт-Артуре, – это место самое благонадежное. Если только запахнет жареным, он там не останется, тогда и Вы с ним уезжайте, а бросать свое дело, да еще в такое время – прямой убыток!
Это рассуждение покорило Г., который и без того уже в нашем обществе несколько отошел от того состояния паники, в котором поддерживало его пребывание в поездах беглецов.
Экспресс покатил на юг, а мы сидели с ним за чаем в вагоне-столовой и жадно слушали новости. Узнать пришлось не Бог весть как много. Без объявления войны японские миноносцы вечером 26 января атаковали нашу эскадру, стоявшую на внешнем рейде без сетей и со всеми огнями. Выходило так, что сравнительно дешево отделались. Могло быть много хуже.
– Но, понимаете, когда я утром увидел под маяком на мели – «Ретвизан», «Цесаревич», «Паллада»… Русская эскадра! Наша эскадра! Господи!..
Он схватился за голову… И, слушая его, глядя ему в глаза, я верил его ужасу, его горю… Он был по природе чужой, но он так сжился с ней, с этой эскадрой, что тут не было места коммерческому расчету… и полушуточное название «старого приятеля» невольно сменилось в душе другим – «старый друг»…
– Но каковы повреждения?
– Не знаю точно… «Ретвизан» – в носовой части, «Цесаревич» – корма, чуть ли не винты… И для них дока нет! Понимаете: дока нет!.. «Паллада» – пустяки: дыра большая, но в доке починят. – Ай-ай-ай! Как можно? Как можно? Говорят: приказано – экономия… Ну, пусть экономия, но зачем отвечать – «так точно, все обстоит благополучно»… Теперь, наверно, будут строить! И денег не пожалеют!.. Поздно!.. Ах!.. Наша эскадра!..
– Снявши голову по волосам не плачут. Нечего горевать задним числом, – угрюмо проговорил старый путеец. – Как-нибудь надо выкручиваться. Что-нибудь делать будем…
– Умирать будем! – звенящим нервным голосом крикнул с соседнего стола молодой артиллерийский подпоручик.
– Это наша специальность… Жаль только, если без пользы… – мрачно отозвался тут же сидевший пожилой капитан…
– Но дальше, дальше?
– Что же дальше? – 27-го пришли, постреляли 40 минут и ушли. Как было дело, право, не знаю. Нарочно стреляли по городу или перелеты – не спрашивал… Просто – бежали все, кто мог… Говорили, если бы крепость была готова к бою, им бы здорово попало, но только у нас…
Рассказчик вдруг замолчал, боязливо оглянувшись, и ни за что не хотел доканчивать начатой фразы.
– Приедете в Артур – сами узнаете. У Вас ведь там знакомые… – скороговоркой шепнул он мне на ухо.
Гнетущее впечатление общей паники, по своей внезапности ошеломившее нас в Харбине, постепенно проходило по мере движения экспресса на юг. На станциях наблюдалось необычное оживление, скажу даже, суета, но суета деловая, без признаков растерянности.
Настроение, господствовавшее на линии, какими-то неуловимыми путями сообщалось и населению поезда. Полковник словно помолодел на 20 лет, забыл про свои недуги и явно пренебрегал не только погодой, но даже и фенацетином. Начальник поезда яростно доказывал всем и каждому (хотя никто с ним не спорил), что никакое начальство не имеет права не пустить его в строй, в одной из батарей отдельного восточно-сибирского дивизиона, где он был вольноопределяющимся, что для комендантства над воинскими поездами найдется довольно народу, но он, прапорщик запаса, должен быть на своем месте…
– Наши, наверно, пойдут в первую голову! – восклицал он. – Наши не выдадут! – и он, видимо, даже жалел нас, незнакомых с «его» батареей.
– Первый блин комом – велика важность! – басил путеец. – Скажем так: насыпали! А дальше? Ведь за нами – Россия! – и, пародируя манифест отечественной войны, он возглашал: «Отступим за Байкал! Оденемся в звериные шкуры! Будем питаться монгольскими лепешками, но не положим оружия, доколе ни одного вооруженного неприятеля не останется не только в пределах нашей территории, но даже и на материке Азии!».
30 января, после полудня, миновали Дашичао. Короткая остановка. Суматоха на станции. Какие-то артиллеристы забегают в вагон-столовую, наскоро глотают что попало под руку и с полным ртом бросают отрывочные фразы:
– Везли на Ляоян, оттуда – к Ялу. Известие – появились у Инкоу. Высадка. Повернули на ветку. Охранники не стали ждать поезда. Ушли грунтовой – у них конная батарея. Две сотни – тоже. С нами – рота стрелков.
И никто не спрашивал, что в силах сделать эти две батареи, две сотни и одна рота, если японцы действительно высаживаются в Инкоу… Ясно было, что сделают все, что могут. И этого было довольно…
Ночь. Гай-Чжоу. Тревога. Здесь железнодорожный путь проходит от берега моря всего в пяти милях. С берега сообщают, что в море видно много огней. С одного из ближних постов донесли о появлении каких-то банд. Туда выступила полусотня – охрана станции. Слышали перестрелку. Хунхузы или японцы? Удобное место испортить путь. Телеграфировали по линии. С часу на час ждут прибытия девятого полка…
– Нас все-таки больше 20 человек, и все вооруженные – вмешивался в разговор сын начальника станции, юноша лет четырнадцати, с винчестером в руках. – В блокгаузе отсидимся, выдержим час-другой, а там – подойдут стрелки!..
Какой задор! Какая уверенность! Какое бодрое, хорошее впечатление оставили в душе эти встречи, все эти мимолетные разговоры…
Наутро Квантун встретил нас жестокой снежной пургой.
На станции Нангалин Г. нас покинул, надеясь каким-нибудь случайным поездом скорее добраться до Порт-Артура, мы же, пассажиры экспресса, связанные багажом, должны были проехаться в Дальний и уже оттуда проследовать к месту назначения. Это оказалось не так просто, ввиду внезапно наступившей войны расписание было отменено. Удовлетворялись в первую очередь насущные потребности крепости и гарнизона. В Дальний мы прибыли строго по расписанию, но здесь вместо 15 минут оставались более 4 часов. Извозчиков не было. Жестокая пурга исключала всякую возможность передвигаться пешком, да к тому же с минуты на минуту ждали разрешения идти в Порт-Артур. Наш спутник, рослый и бравый путеец, тотчас по прибытии куда-то исчез – очевидно, к сослуживцам за новостями. Полковник Л. и я сидели в пустом вагоне, обмениваясь отрывочными замечаниями, главной и даже единственной темой которых была досадная задержка.
В белой сетке пурги станция казалась вымершей. Не было и следа того оживления, той бодрой, здоровой суеты, какую мы видели на севере. Лица служащих, пробегавших мимо, выражали только растерянность, озабоченность, даже словно испуг и ожидание близкой катастрофы. Мы пробовали кого-нибудь остановить, расспросить… Они отделывались какими-то неопределенными фразами и бежали дальше.
– Захотят, догадаются – заберут голыми руками… Хоть сейчас… – бросил на ходу какой-то штатский в драгунской фуражке.
Полковник совсем разболелся: ел фенацетин, принимал бром и не только бранился, но даже роптал на Провидение.
К 12 часу дня сквозь плач вьюги до нас долетели глухие удары редких пушечных выстрелов.
– Что такое? – поймал я проходившего мимо начальника поезда.
– Вы разве не знаете? – смущенно остановился он. – Хоронят погибших на «Енисее»…
– Ничего не знаем! – заволновались мы оба.
– «Енисей» погиб на минном заграждении, которое сам же ставил… «Боярин» – тоже…
Я так и вскинулся.
– Какой «Боярин»? Что с ним? Я сам еду на «Боярин» старшим офицером! Говорите толком!
– Говорите, черт Вас возьми! – захрипел полковник, – ведь мы тут как в одиночном заключении!
– Господа! Ради Бога! Я не могу, не приказано… – и начальник поезда убежал.
Еще больше часа томительного ожидания… Наконец раздались звонки, свистки, поезд тронулся. Перед самым отходом в вагон вскочил наш спутник-путеец. Злобно швырнув в какое-то купе свою шубу, занесенную снегом, он вошел к нам, запер дверь и тяжело опустился на диван…
– Сдали!..
– Что сдали? Кого сдали?
– Не «что» и не «кого», а сами сдали!.. Понимаете? – Сами сдали! – промолвил он, отчеканивая каждый слог. – Я это помню. Нам в девятисотом тоже приходилось туго. Тоже врасплох. Где не сдавали – выкручивались. Сдали – значит сразу признали себя побежденными… И будут побиты! И поделом! – вдруг выкрикнул он. – Казнись! К расчету стройся! «Цесаревич», «Ретвизан», «Паллада» подбиты минной атакой; «Аскольд», «Новик» – здорово потерпели в артиллерийском бою; «Варяг», «Кореец» – говорят, уничтожены в Чемульпо; транспорты с боевыми припасами захвачены в море; «Енисей», «Боярин» – погибли собственными средствами, а «Громобой», «Россия», «Рюрик», «Богатырь» – во Владивостоке за тысячу миль!.. Крепость готовят к бою после начала войны! 27-го стреляли только три батареи: форты были по-зимнему; гарнизон жил в казармах, в городе; компрессоры орудий Электрического утеса наполняли жидкостью в 10 часов утра, когда разведчики уже сигналили о приближении неприятельской эскадры!.. Не посмеют! – Вот вам!..
Он отрывисто бросал свои недоговоренные фразы, полные желчи, пересыпанные крупной бранью (которую я не привожу здесь). Это был крик бессильного гнева… Мы, случайные представители Генерального штаба и флота, слушали его, жадно ловя каждое слово, не обращая внимания на брань. Мы сознавали, что она посылается куда-то и кому-то через наши головы, и если бы не чувство дисциплины, взращенное долгой службой, мы всей душой присоединились бы к этому протесту сильного, энергичного человека, выкрикивавшего свои обвинения… Но странно: по мере того как со слов нашего собеседника ярче и ярче развертывалась перед нами картина нашей беспомощности (как оказалось впоследствии, его сведения, хотя и обрывочные, были верными), какое-то удивительное спокойствие сменило мучительную тревогу долгих часов неизвестности и томительного ожидания…

Внешний рейд Порт-Артура до войны
Я взглянул на полковника. Он сидел, весь вытянувшись, откинувшись на спинку дивана, засунув руки в карманы тужурки, и казалось, что если бы кто-нибудь в этот момент предложил ему фенацетина, то это могло бы кончиться очень дурно…
– Измена!.. Я верю, я не смею не верить, что бессознательная, но все же измена… – закончил путеец, тяжело переведя дух…
– Пусть так! Не переделаешь! – воскликнул полковник, – но все это – только начало. За нами Россия! А пока мы – ее авангард, мы – маленькие люди, мы будем делать свое дело!..
И в голосе этого человека, всего час тому назад такого больного и слабого, мне послышалась та же звенящая нота, которой звучал голос молодого подпоручика, на вопрос «что же делать будем?» крикнувшего – «умирать будем!»…
И я снова поверил!..
В Нангалине опять застряли на несколько часов. Вагон-столовую почему-то оставили на Дальнем. Пришлось питаться в станционном буфете. Небольшая комната, носившая громкое название «буфет и зала I и II класса», была битком набита публикой, обитателями Квантуна, стремившимися частью в Артур, частью в глубь Манчжурии. Здесь не слышно было разговоров ни о наших неудачах, ни о шансах на будущее… Глухие удары минных взрывов, обессиливавших флот, печальные звуки орудийного салюта, провожавшие в могилу безвременно и бесполезно погибших борцов, не достигали сюда. Снаружи плакала и злилась вьюга, наметывая сугробы над свежими могилами, а здесь, в душной комнате, в облаках пыли и табачного дыма, хлопали пробки, слышались речи о подрядах, поставках, об имуществах, приобре тенных «за грош, по нынешним временам», швырялись бумажки и золото, чтобы «мне первому подали».
Мы наскоро съели что-то и поспешили вернуться в поезд.
В Артур прибыли только около 11 часов вечера. Полковника встретил и увез кто-то из офицеров его формирующегося полка; путейца встретили товарищи, а я оказался совсем на мели. Бывшие спутники обещали прислать первого встречного извозчика. На этом пришлось успокоиться.
Неприятные полчаса провел я сидя в углу станционной залы со своими чемоданами. Какая-то компания запасных нижних чинов, призываемых на действительную службу, но еще не явившихся, устроила здесь что-то вроде «отвальной».
Керосиновые лампы тускло светили в облаках табачного дыма и кухонного чада. На полу, покрытом грязью и талым снегом, занесенным с улицы, стояли лужи пролитого вина и пива, валялись разбитые бутылки и стаканы, какие-то объедки…
Обрывки нескладных песен, пьяная похвальба, выкрикивание отдельных фраз с претензией на высоту и полноту чувств, поцелуи, ругань… Общество было самое разнообразное – мелкие собственники, приказчики, извозчики… – рубахи-косоворотки и воротнички «мономоль», армяки, картузы, пальто с барашковым воротником, шляпы и даже шапки из дешевого китайского соболя, окладистые бороды и гладко «под англичанина» выбритые лица… Словно в тяжелом кошмаре, против воли, я смотрел, слушал, старался что-то понять, пытался уловить настроение этих будущих защитников Порт-Артура…
Как знать?.. Может быть, это вовсе не пьяный угар, а богатырский разгул? Раззудись плечо, размахнись рука!.. Так что ли? Не знаю… Во всяком случае, китаец, прибежавший сказать, что извозчик приехал, был встречен как избавитель.
Одиссея моих ночных скитаний в поисках пристанища малоинтересна.
К утру пурга улеглась; ветер стих, и солнце взошло при безоблачном небе. К 10 часам, когда я отправился являться по начальству, улицы превратились в непроходимую топь. Пользуясь случаем, немногочисленные извозчики (большинство из них было из запасных и теперь прекратило свою деятельность) грабили совершенно открыто, среди бела дня, беря по пять рублей за пять минут езды.
Говорят, что первое время, пока для обуздания их аппетита не были приняты решительные меры, они зарабатывали, благодаря невылазной грязи, по сто и даже более рублей в день. Но это только так, к слову. Тогда, в охватившей всех горячке, на такие мелочи не обращали внимания.
Ныряя по выбоинам, перескакивая лужи, похожие на пруды, жмурясь и прикрываясь, как можно, от брызг жидкой грязи, снопами вздымавшихся из-под ног лошадей и колес экипажей, я давно всматривался, пытаясь уловить и запечатлеть в своей памяти общую картину, общее настроение города… Поминутно попадались обозы, отмеченные красными флажками; тяжело громыхали зарядные ящики артиллерии; рысили легкие одноколки стрелков; тащились неуклюжие туземные телеги, запряженные лошадьми, мулами, ослами; высоко подобрав полы шинелей, шагали при них конвойные солдаты; ревели ослы, до надрыва кричали и ссорились между собой китайские и корейские погонщики; беззастенчиво пользовались всем богатством русского языка ездовые; с озабоченным видом, привстав на стременах, сновали казаки-ординарцы; с музыкой проходили какие-то войсковые части; в порту грохотали лебедки спешно разгружавшихся пароходов; гудели свистки и сирены; пыхтели буксиры, перетаскивающие баржи; четко рисуясь в небе, поворачивались, наклонялись и подымались, словно щупальца каких-то чудовищ, стрелы гигантских кранов; слышался лязг железа, слова команды, шипение пара; откуда-то долетали обрывки «Дубинушки» и размеренные выкрикивания китайцев, что-то тащащих или подымающих… А надо всем – ярко-голубое небо, ослепительное солнце и гомон разноязычной толпы.
«Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний…» И тем не менее чувствовалось, что в этой суете, в этом лихорадочном оживлении не было ни растерянности, ни бестолочи. Чувствовалось, что каждый делает свое дело и уверен, что выполнит его, как должно. Огромная машина, которую называют военной организацией и которую в мирное время лишь по частям проверяют и «проворачивают вхолостую», работала внастоящую, полным ходом.
Тяжелые впечатления вчерашнего дня – станция Дальнего, буфеты Нангалина и Порт-Артура, желчные речи путейца – все сгладилось, потонуло в чувстве солидарности с этой массой людей, еще так недавно почти чуждых друг другу, а теперь – живших одной жизнью, одной мыслью.
Глава II
Порт-Артурские впечатления.
Слава Богу – на миноносце! Первый выход. «Беречь и не рисковать!». Тяжкая обида
Первое место, куда я направился, был, конечно, морской штаб наместника. Там я надеялся не только узнать что-нибудь достоверное о судьбе «Боярина», тесно связанной с моей собственной, но и вообще несколько сориентироваться, разобраться в слухах и сплетнях.
В прихожей и смежной с ней комнате стояли огромные ящики, в которые писари укладывали синие папки «дел» и разные канцелярские принадлежности. Работой руководил чиновник.
– Что это? Укладываетесь? Куда?
– Нет… так, на всякий случай… впрочем, извините! – и он, отвернувшись от меня, с явно деланным раздражением набросился на какого-то писаря, оказавшегося в чем-то виноватым.
Начальник штаба контр-адмирал Витгефт, мой бывший командир, с которым я сделал трехлетнее плавание, встретил как родного. Обнял, расцеловал, но сейчас же, словно предупреждая всякие вопросы, торопливо сообщил, что, «по слухам», еще есть надежда на спасение «Боярина», что мне надо как можно скорее явиться к начальнику эскадры, что там мне все скажут, укажут и т. д., а сам в то же время схватился за какие-то бумаги, начал их перелистывать, перекладывать с места на место, как бы давая понять, что страшно занят и разговаривать ему некогда.
Выйдя из кабинета, я попытался обратиться к офицерам, служащим в штабе, из которых большинство были старыми соплавателями и сослуживцами по эскадре Тихого океана, некоторые даже товарищами по выпуску, но все они, в момент своего прихода, видимо, ничего не делавшие, теперь сидели за столами, копались в бумагах, имели вид чрезвычайно озабоченный и отделывались какими-то туманными фразами. Однако это отнюдь не было следствием «штабной» важности, забвения старой дружбы.
Наоборот, как только я сказал, что у меня в городе нет пристанища, на меня посыпался целый ряд самых радушных предложений гостеприимства, и люди, только что отговаривавшиеся неотложными делами, всецело занялись посылкой вестовых для сбора моего имущества, растерянного по Артуру.
На «Петропавловске», где держал свой флаг начальник эскадры[9], настроение было еще более подавленное.
«Точно покойник в доме», – невольно мелькнуло у меня в голове…
Флаг-офицеры и другие чины штаба и судового состава радостно пожимали руки, наперерыв расспрашивали о кронштадтских и петербургских знакомых, чрезмерно интересовались дорогой, но решительно уклонялись от всякого разговора о положении настоящего момента. Флаг-капитан был, по-видимому, занят еще больше, чем адмирал Витгефт. Он просто и без замедления провел меня к начальнику эскадры.
За три года, что я его не видел, адмирал мало изменился. Все та же фигура старого морского волка, даже седины немного прибавилось, но только добродушно-проницательный взгляд серых глаз сделался как-то сосредоточенно-усталым, словно обращенным куда-то внутрь. Казалось, что, произнося ласковые слова приветствия, отдавая приказания, он делает это чисто механически, по привычке, что мысли его заняты чем-то совсем другим, что, разговаривая со мною, он слушает не меня, а какой-то тайный голос, подымающийся со дна души, и с ним ведет свою беседу.
– …Да, да… говорят – есть надежда. Командир, 70 человек команды отправились сегодня… искать… Может быть… Тогда, завтра – Вы с остальными…
Я попытался попросить разрешения отправиться теперь же на чем-нибудь… на миноносце, на портовом баркасе.
Адмирал сначала, как будто, согласился.
– Да, да… конечно…
Потом вдруг, словно что вспомнив, усталым голосом промолвил:
– Впрочем, нет… все равно… вряд ли… – и, круто повернувшись, даже не простясь, тяжелой походкой направился из приемной в свой кабинет…
Выйдя на набережную, я зашел в дом (или, как говорили, «дворец») наместника, расписался здесь в книге являющихся и направился домой, т. е. к приютившему меня товарищу. Следовало бы еще явиться к младшим флагманам эскадры, но я решил отложить это на завтра, – не все ли равно?.. Мне было так тяжело… Так хотелось быть одному…
Хозяин еще не вернулся со службы. Сбросив мундир, я сел у окна и стал глядеть… Прямо передо мной возвышался массив Золотой горы, увенчанной брустверами батарей, над которыми высоко в небе гордо вился по ветру наш русский флаг… «Где однажды поднят русский флаг, там он уже никогда не спускается», – пришла на память знаменитая резолюция Николая I на донесение о занятии Уссурийского края. Еще вчера, еще сегодня утром я верил в ее непреложность… Ну, а теперь?.. Я не смел дать себе никакого ответа… Может быть, даже хуже, – я не хотел слушать того ответа, который шептал мне какой-то тайный голос… Налево, в восточном углу бассейна, в доке, был виден «Новик», а из-за серых крыш мастерских и складов поднимается целый лес стройных, тонких мачт миноносцев, скученных здесь борт о борт; в легкой мгле, пронизанной лучами вечернего солнца, темнели громады «Петропавловска» и «Севастополя»; правее, в проходе на внешний рейд через здания минного городка, видны были мачты и трубы стоящего на мели «Ретвизана»; еще правее, за батареями, постройками и эллингом Тигрового Хвоста, обрисовывались силуэты прочих судов эскадры, тесно набитых в небольшое пространство Западного бассейна, которое «успели» углубить… Небо было все такое же безоблачное, солнце – такое же яркое; шум и движение на улицах и в порту, кажется, еще возросли… Но это смеющееся голубое небо не радовало, не скрашивало своими лучами уличной грязи и лохмотьев китайских кули, а только досадно слепило глаза; шум и движение казались бестолковой суетой… Почему?..
Старая, в детстве читанная сказка Андерсена вспомнилась вдруг. В театре фея Фантазия нашептывает зрителю: «Посмотри, как хороша эта ночь! Как, озаренные луной, они живут всей полнотой сердца!» – а в другое ухо долговязый черт Анализ твердит свое: «Вовсе не ночь и не луна, а просто размалеванная кулиса, за которой стоит пьяный ламповщик! А эта вдохновенная певица только что ссорилась с антрепренером из-за прибавки жалованья»…
Я, кажется, задремал…
Вечером пошел в Морское собрание. Строевых офицеров, как наших, так и сухопутных, почти не было. Изредка забегали штабные и портовые. Преобладали чиновники и штатские обыватели. Сплетни и слухи, одни других невероятнее, так и висели в воздухе. Одно только признавалось всеми, и никто против этого не спорил: если бы японцы пустили в первую атаку не 4, а 40 миноносцев и в то же время высадили хотя бы дивизию, то и крепость и остатки эскадры были бы в руках их в ту же ночь…
Курьезно, что разговоры на эту тему, казалось бы наиболее животрепещущую, носили какой-то «академический» характер суждений о материях важных, но в будничной жизни несущественных.
Существенным, наиболее важным вопросом, являлось: «Как-то наместник вывернется из этого положения?» Что он вывернется (и притом без урона), никто не сомневался. Но как? Просто талантливо отыграется или за чей-нибудь счет, т. е. кого-нибудь выставит «козлом отпущения»?
– Несдобровать Старку!.. Хороший человек, а несдобровать! Прямо скажу – жаль… А ничего не поделаешь! – хриплым басом заявил грузный (и уже изрядно нагрузившийся) торговый чин.
– Напрасно так полагаете! – отозвался с соседнего стола некий «титулярный». – Не так-то просто скушать! Документик[10] у него есть в кармане такого сорта, что «сам» на мировую пойдет! И не только на мировую – ублажать будет, к награде представит! Это все нам в штабе точно известно…
– А ты молчал бы лучше! – резко оборвал его сосед-собутыльник. – Документ-то у Старка, а не у тебя! Смотри, дойдет до… куда следует, – от тебя только мокро останется…
«Титулярный» вдруг присмирел.
На другой день, 2 февраля, еще до подъема флага, я был уже на «Петропавловске». Печальная весть: «Боярин» погиб.
Приходилось искать место куда бы пристроиться. По моему служебному возрасту это было не так-то просто. Помогли старые друзья по эскадре, место нашлось чисто случайно. Опасно заболел и подал рапорт о списании командир миноносца «Решительный», лейтенант К.[11] Для назначения меня на эту вакансию требовалась канцелярская процедура, которая обычным порядком заняла бы дня три, но тут ее обделали в несколько часов: по докладе начальнику эскадры его штаб должен был запросить штаб наместника, не встречается ли препятствий к моему назначению; штаб наместника, по докладе его высокопревосходительству, должен был ответить, и в случае благоприятного ответа, доложенного начальнику эскадры, этот последний мог отдать приказ о временном моем назначении, которое получало формальную санкцию после утверждения его приказом самого наместника.
Дело оборудовали блестяще. Я сам служил за рассыльного и носил бумаги из одного учреждения в другое.
– Ну, братец, теперь дело в шляпе! – говорил старый товарищ, у которого я поселился, – вечером выйдет приказ по эскадре, а о приказе наместника не заботься: он в эти мелкие перемещения не входит. Это предоставлено Вильгельму Карловичу[12], а он ответил – «препятствий нет». Поднесем «самому» корректуру подтвердительного приказа – пометка зеленым карандашом – и кончено! – Спасибо, дорогой! Сердечное спасибо! За обедом ставлю Мумм, а теперь пойду повидать К. Может быть, сдача денежной суммы…
– Так я позову к обеду кого-нибудь из наших? – кричал он мне вслед.
– Зови! Зови! Спрыснем!..
Я нашел К. в запасных комнатах Морского собрания, лежащего в постели, в сильном жару[13]. Одно, что он твердо помнил, это отсутствие на его руках каких-либо денежных сумм.
– Только что начали кампанию, а потому денег никаких. Снабжение, припасы… там должно быть… в книгах… Вы найдете… – он, видимо, усиливался вспомнить, привести в порядок мысли, лихорадочно теснившиеся в голове, но его жена, бывшая тут же, исполняя роль сестры милосердия, так красноречиво взглянула на меня, что я заторопился покончить деловые разговоры, пожелать доброго здоровья и уйти.
Дома – чертог сиял! Хозяин, выражаясь эскадренным жаргоном, «лопнул от важности» и устроил обед gala[14].
– Идет «Решительный»! Место «Решительному»!
– Господа! Без каламбуров! «Решительно» прошу к закуске! – провозгласил хозяин. – Институтки вы, что ли? Лобызаться, когда на столе свежая икра и водка!
Вышла формальная пирушка.
– Надо откровенно признаться, по совести, миноносец твой не очень важное кушанье! – басил один из гостей. – Наше, российское, неудачное подражание типу «Сокола»! Ну, а все-таки: щей горшок, да сам большой! Ха-ха-ха!
Под шум общего разговора я рассказал хозяину дома результаты моего визита к К.
– Ну, и слава Богу! Главное деньги, а с отчетностями по материалам кто станет разбираться? Да и куда его? Японцам в руки? – вино, видимо, несколько развязало ему язык, и он вдруг заговорил торопливым шепотом, наклонившись к моему уху. – Главное: принимай скорее! Завтра же! Подавай рапорт, что принял на законном основании и вступил в командование! Проскочило – пользуйся! Сменять уже труднее! Ну?.. Понял?..
После полубессонных предыдущих ночей я спал как убитый, когда почувствовал, что кто-то толкает меня в плечо, и услышал настойчиво повторяемое: «Ваше высокородие! А! Ваше высокоблагородие!»
– Что такое?
– Так что Вас требуют к телефону из штаба и очень экстренно!
Серый рассвет ненастного дня глядел в окна. Видимо, было еще очень рано.
– Экстренно! Весьма экстренно! – повторял вестовой…
Я вынырнул из-под теплого одеяла и, ежась от холода, подбежал к телефону.
– Алло! Слушаю! Откуда говорят?..
– Вчера вечером вышел приказ о вашем назначении…
– Знаю, знаю!..
– Можете ли Вы сейчас вступить в командование? В 7 часов миноносец должен выйти на рейд… Пары разводят.
Я посмотрел на часы – 6 ч 35 мин!
– …Там поступите в распоряжение младшего флагмана. Флаг – на «Амуре». Получите инструкции. Как доложить начальнику штаба? Можете ли?
Незнакомый миноносец… Черт его знает, какой… Сели – поехали… Какой вздор! Конечно, не могу… – мелькало в голове… Но вдруг вспомнился вчерашний разговор – «принимай скорее, проскочило – пользуйся» – и вместо энергичного отказа я крикнул в телефон:
– Конечно могу! Доложите адмиралу – еду сию же минуту! Дайте к пристани дежурный катер!
При помощи хозяина дома, тоже сорвавшегося с постели на звонки телефона, наскоро побросали в первый попавшийся чемодан все, что находили крайне необходимым, и через несколько минут я уже был на адмиральской пристани в сопровождении вестового, тащившего вещи, а еще минут через пять высаживался на «Решительный».

Миноносец «Сильный» типа «Сокол»
Меня встретили: лейтенант (минер), два мичмана и механик. Было не до церемоний. Познакомились, и я прямо, не спускаясь вниз, прошел на мостик.
Было 7 ч утра.
Золотая гора на своей мачте уже держала сигнал: «Решительный», ход вперед!».
«Господи, благослови!» – подумал я и скомандовал: «Отдать носовые швартовы!»
Миноносец оказался на редкость послушным суденышком. Несмотря на полное незнакомство с ним, я благополучно развернулся в каше судов, заполнявших Восточный бассейн, вышел в проход, обогнул «Ретвизан», окруженный всякими «портовыми средствами», и, сопровождаемый миноносцем «Стерегущий», следовавшим за мной, оказался на внешнем рейде, где ждали нас «Амур», под контр-адмиральским флагом[15], «Гиляк» и «Гайдамак».
Единственной полученной мною инструкцией с «Амура» был сигнал: «Следовать за мной. Держаться на правой раковине».
Пошли в направлении к Талиенвану.
Погода была подозрительная. Пасмурно. Тянул слабый восточный ветер. В воздухе кружились редкие снежинки… Я пригласил на мостик лейтенанта и спросил его: есть ли таблицы девиации компасов? Он отозвался полным незнанием, так как назначен на миноносец только вчера… Спросил старшего из мичманов, который оказался старожилом – на миноносце уже две недели, – он сообразил, что в эту кампанию никто к компасам не прикасался и магниты стоят по-прошлогоднему.







