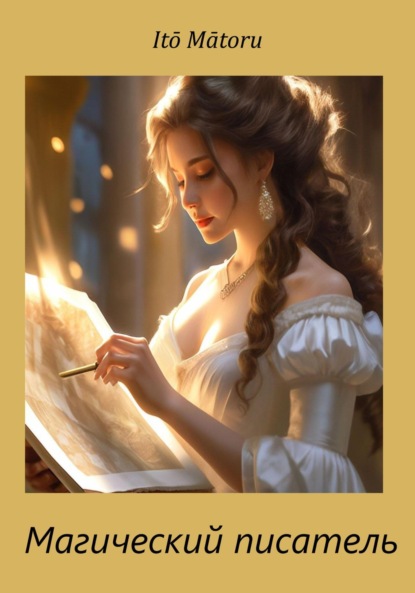Полная версия:
Ито Матору (Itō Mātoru) Ито Матору (Itō Mātoru) После пожара
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Ито Матору (Itō Mātoru)
После пожара
Шелестели школьные октябрьские дни. Первые морозы уже не раз обнимали землю. Дождь и заморозки превращали окружающих в птиц, которые нахохлившись и стремились к теплу. Пожелтевшие листы опадали и падали на землю к своим братьям, считая, что пора уже оставить упрямство и подчиниться смене сезона.
К двухэтажной сельской школе подъехал автобус, из которого посыпались ещё не совсем проснувшиеся дети. Да, жизнь идёт, не взирая на произошедшее с кем-то одним. Коллектив продолжает идти и заведённая машина систем, покрякивая, отбрасывает шлаки назад, словно камни, попавшие под колёса. Последними из жёлтого автобуса выбралась парочка детей, которым уж совсем не хотелось учиться. Познав горечь и потрясение, уж точно не до учёбы, но коллектив ведь не стоит на месте, поэтому в спину толкают правила и устои.
Кабинет русского языка наполняли подростки седьмого класса. Шутки и заигрывания – вот, чем был наполнен класс, пока не зашла она…
Девушка с печальным лицом и безразличными к окружающим глазами. Что сказать? Как реагировать на неё? Класс на мгновение застыл, следя за ней до того места, где она обычно сидела. Подобно дымку, по классу распространялось ощущение неловкости. Впрочем, пришедшей было всё равно на происходящее. Её голова итак была переполнена разными мыслями. Впрочем, они никогда не были друзьями, чтоб делиться сочувствием и словами ободрения. Просто чужачка, отщепенец, у которого что-то случилось. Эта пауза, как мутная медуза, встала между всеми. Всё ещё мучил вопрос: “нужно ли что-то говорить?”. А что они могли сказать? Разве от слов может что-то изменится? Но она же желала просто покоя, чтоб никто не трогал её и не спрашивал ни о чём.
Прозвенел звонок и далее всё было как в тумане. Слова учителей пролетали мимо ушей. И если рука писала, то мозг был далёк от происходящего. Учителя также, как и дети соблюдали дистанцию, и решили попросту не трогать ученицу. Наверное, они тоже были потрясены и не знали, что сказать. Девочка несколько раз открывала свой дневник, чтоб посмотреть на единственную оставшуюся фотографию:
– Неужели такое могло произойти с ними? Неужели он и вправду умер?
Слезы снова и снова подступали к глазам. В гортани чувствовалась дрожь и горький комок.
– Я не могу показывать им свои слезы. Не могу не верить и не надеяться на то, что он жив.
Но всё и так уже было решено. Морг заключил акт и останки покоились на кладбище. Внутреннее отрицание не могло вернуть брата к жизни. Того самого милого брата, который не успел дожить даже до школьного возраста. Моменты, как осколки, впивались в сердце, обескровливая чувства. Казалось, что больше никогда не будет прежняя жизни, никогда дорога не станет подругой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.