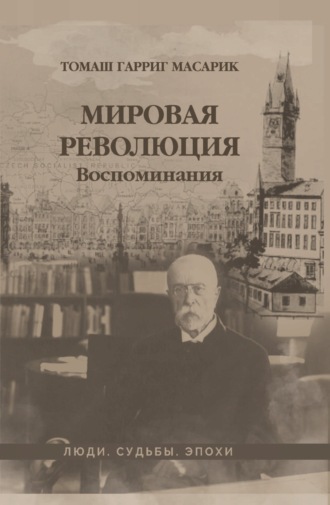
Томаш Масарик
Мировая революция. Воспоминания
6
У нас будет еще случай позднее поговорить о России и о нашем отношении к ней. В начале войны задача сводилась к тому, чтобы критически взвесить плюсы и минусы обеих сторон и принять решение. Я рассуждал: у Германии имеется хорошая и большая армия, определенный план (пангерманизма), за которым стоит весь народ, а не только интеллигенция, она хорошо подготовлена, у нее талантливые военачальники (этот взгляд я скоро изменил), она богата и обладает сильной промышленностью (военной); зато австрийское войско и командный состав слабы; всевозможные великие князья, невыносимый Фридрих, конкуренция с Берлином и германским командным составом – все это минусы. Я знал, что в Вене было два течения: одно за единый командный состав, другое за самостоятельный. Я сомневался в Конраде и иных прочих. Я ожидал, что Вена в конце концов подчинится Берлину и будет его слушаться, но сделает это неохотно; должен был сказаться и сепаратизм Венгрии. Центральные державы, несмотря на близкое соседство, не будут, таким образом, обладать политическим и военным единством. В австрийской армии нельзя будет положиться на нас и итальянцев, пожалуй, на румын и сербов.
У союзников перевес в людях; все вместе (уже в 1914 г.) они имеют больше солдат, чем противники, кроме того, они богаче, их промышленность сильнее. Конечно, по-настоящему обученное, значительное войско имеется лишь у Франции, отчасти у России. Но Россия вообще ненадежна в военном, политическом, экономическом и финансовом отношениях. Англия лишь теперь должна создавать и обучать свою армию. У Сербии прекрасные солдаты, но их мало и им будут мешать турки (Турция объявила союзникам войну 12 ноября). Италия останется, по крайней мере, нейтральной, Румыния тоже, несмотря на то, что король стоит бесспорно за Германию (Италия постановила быть нейтральной 31 июля, а Румыния 3 августа). Сильно будет вредить географическая, политическая и военная разобщенность и происходящая из-за этого невозможность проводить цельный план и объединить отдельные выступления. Пути сообщения на востоке не благоприятствуют русским, но битвы у Марны и Ипра много обещают. Союзники настроены решительно против Германии, но менее против Австрии, в этом заключается невыгода. Вывод: победа союзников возможна, но для нее требуется напряжение всех их сил. То обстоятельство, что немецкий план – раздавить быстро Францию, а Россию по крайней мере парализовать – не удался, подавало нам надежду на победу. Для нас будет выгодно, если война затянется, ибо мы сможем развить революционную пропаганду.
Настроение в Праге и во всей Чехии в декабре 1914 г., когда я собирался за границу вообще было довольно тяжелое. Чувствовалась неопределенность по отношению к России и союзникам; сомнения прокрадывались и в собственные ряды. Мобилизация, как заявляла Вена и похвалялся Берлин, прошла гладко: все народы сомкнулись вокруг трона. Мы-то знали, что это неправда; в Праге и еще кое-где устраивались верноподданнические маскарады, но настроение вообще было антиавстрийское. Были слабые и нечестные люди, но сознательный протест многих отдельных лиц в войске и настроение масс, поскольку я знал и определял положение, давали основание для организации активного протеста. Народ, особенно же интеллигенция, были воспитаны в австрийских симпатиях: Австрия будто бы нам необходима как охрана от германского нашествия. Можно было даже опасаться, что найдутся и среди вождей лица, которые открыто и убежденно выступят бок о бок с Австрией. Однако большинство народа было настроено решительно антиавстрийски. Только бы не покинули меня депутаты, говорил я сам себе; написанные под давлением полиции статьи и предательство некоторых лиц не повредят. Следовательно, с Божией помощью, за работу! А если Германия и Австрия как-нибудь победят или результат войны не будет решительным – останусь за границей и буду продолжать революционную оппозицию против Австрии для будущего.
Из наших иностранных колоний, сначала французской и американской, потом английской и русской, доходили известия о антиавстрийских выступлениях чехов. В Париже уже 27 июля наши сорвали флаг с австрийского посольства, а 29-го постановили, что идут добровольцами во французскую армию; в Чикаго была устроена 27 июля манифестация против Австро-Венгрии, в Лондоне она состоялась 3 августа. После Парижа и русская колония представила правительству план организации русских легионов; члены чешской колонии во Франции были приняты в иностранные легионы 20 августа, в тот же день представители чешской колонии в России были приняты царем, а чешская дружина была организована 28 августа. Из России прибыли гонцы, осведомившие нас о том, что наши там устраивают. Все это соответствовало нашей национальной программе и настроению… Начинать, начинать…
Бывали у нас с проф. Колоушком частые и подробные разговоры об экономической и финансовой основе чешского государства (соединенного со Словакией). Во время нашей пропаганды, я это знал, мы должны будем убеждать и цифрами, и необходимо было набросать как можно более ясную картину будущего государства. Сговорились мы с проф. Колоушком, что он сам будет писать статьи о наших финансах, а также постарается достать и от других лиц; я сам поместил статью в сентябрьском номере «Нашей Добы».
Моя политическая программа состояла в объединении всех чешских стремлений, как они были формулированы в соответствии с государственным, историческим и естественным правом; я постоянно думал о присоединении Словакии; по своему происхождению я словак и мораван. Я знал довольно хорошо Словакию и определил сам границы ее с Венгрией: для верности просил я д-ра Антонина Тайна, чтобы один из его знакомых, кажется, офицер, начертил мне границы Словакии на юге. С этим планом и с перечнем главных пограничных городов поехал я за границу.
7
Я хочу здесь же сказать еще несколько слов о плане коридора между Югославией и нами. Это не был мой план, но многие, как наши, так и югославяне, увлекались им. Узкий коридор в 200 килом. длиной, отделяющий Венгрию от Австрии и изолирующий вполне венгров, казался мне неосуществимым. Если не ошибаюсь, в Загребе этот вопрос поднял д-р Лоркович, вызванный мной в Прагу.
Перед отъездом я хотел быть хорошо осведомлен о положении в Хорватии. Я опасался, что снова могут возникнуть между хорватами и сербами старые недоразумения, так как Вена и Будапешт будут их усиленно раздувать. Из доклада д-ра Лорковича я убедился, что в Хорватии есть немало людей, мечтающих о самостоятельном государстве, республике или королевстве, с иностранной (английской) династией во главе. Хорватия должна была соединиться с Далмацией, Истрией и Каринтией; вопрос о Боснии и Словении оставался открытым. Я, со своей стороны (Италия тогда была нейтральна), стоял за самое тесное как географическое, так и политическое единение Югославии. Триест я себе представлял как свободный город, вроде Гамбурга. Более подробный план в тогдашнем положении не был возможен. Д-ру Лорковичу я сообщил о своих намерениях и просил его осторожно предупредить моих югославянских друзей. Я ожидал увидеть их за границей и непосредственно начать вместе с ними работать.
С д-ром Лорковичем мы еще встретились в Вене, когда я уезжал в Италию; он мне принес карту и статистику хорватских колоний на территории предполагаемого коридора.
О положении среди словинцев и их планах я говорил с редактором Крамером; то, чего я ожидал, подтвердил мне и д-р Крамер, а именно, что передовые словинцы стоят за единение всех трех ветвей единого народа.
8
Перед отъездом мне хотелось еще разок основательно взглянуть на Австрию и на эту самую Вену. Влез я прямо в львиный ров. В Праге поговаривали, что у губернатора Туна есть присланный из Вены список лиц, подлежащих аресту, и что в этом списке значусь и я.
И вот, после своей первой поездки в Голландию пошел я прежде всего к Туну, имея для этого тоже повод в связи с конфискацией «Нашей Добы» и вечным давлением на «Час». Тун был приличный человек, и с ним можно было говорить довольно откровенно. На этот раз он показался мне более холодным, чем обычно, и даже не подал мне руки. Он ввел меня в комнату около приемного зала, и мне показалось, что за портьерой кто-то записывает все мои слова. Мне хотелось вдолбить ему несколько мыслей. Прежде всего, что австрийское правительство во время недавней Балканской войны разрешило делать нам сборы в пользу сербов и болгар – как же можно ожидать, чтобы наши солдаты так скоро об этом забыли? Что касается русофильства – то верно, что мы русофилы, но это вовсе не означает, что мы обожаем царя и его режим; во всяком случае, Вена должна проявить немного политического такта по отношению к нашим солдатам. Сказал я ему, что раненые, возвращающиеся с русского фронта, жаловались на недостаточный уход и лечение в полевых лазаретах; еще сказал я ему, что военные доктора, и к тому же немцы, обращали мое внимание еще перед войной на недостаточность медицинской помощи. Военные власти руководятся в этом отношении взглядами эрцгерцога Франца Фердинанда, который считает всех военных докторов атеистами и евреями. Повторил я ему то, что рассказывали мне военные доктора уже во время войны, т. е. что военная медицинская администрация не позаботилась обновить аптеки, что лекарства стары и не действуют, что не хватает хирургических инструментов, а о рентгеновании и не снилось. Рассказал я ему о перипетиях командира полка в Галиче (венгерца) и о его опасениях, переданных мне. Таким образом, рассказал я губернатору довольно много, между прочим, и свои личные наблюдения в Германии и Голландии. Благодаря постоянному подчеркиванию некоторых впечатлений, он мог догадаться, что как раз этого не хватает в Австрии. Политически я сделал следующее резюме: Австрия, если бы в Вене могли быть менее пристрастны, должна была бы лишь радоваться, что чехи не хотят видеть ее под постоянным контролем Германии. Я дал ему несколько доказательств невозможной античешской и антиславянской деятельности немецких офицеров при австрийском генеральном штабе и в войске (немецкие песенники и т. д.).
Благодаря сообщениям Кованды мог я пустить шпильку относительно отношений к Соколу, цензуры и т. п. Наместник, был, по-видимому, удивлен и даже поражен. Полагаю, что не ошибусь, если скажу, что в глубине души он со многим должен был согласиться; при прощании он благодарил меня за посещение и несколько раз повторил, что его чрезвычайно заинтересовали мои выводы. Руки мне снова не подал, но во время разговора он заметил, что лично против меня он ничего не предпринял. Основываясь на этом, я решил, что мне удастся без особых затруднений выехать в третий раз за границу. Кроме того, я обратился к нему с одной конкретной просьбой: передать немецким евреям, чтобы они были умереннее в своем австрофильстве. В Праге было значительное отвращение к немецким евреям, ходили слухи о погроме немецких редакций и тому подобное; лично я говорил о том же с разумными немецкими евреями. Я опасался, что еврейские погромы произвели бы скверное впечатление за границей и затруднили бы мою деятельность. Тун обещал, что примет меры.
Через несколько дней я снова написал Туну и обратил его внимание на некоторые явления. У меня были также тактические цели – не показывать перед скорым отъездом своих намерений и вести себя самым невинным образом.
Чтобы еще раз проверить свое отрицательное отношение к Австрии, поехал я в Вену переговорить с некоторыми политическими деятелями.
Отправился я, между прочим, к Керберу, с которым беседовал часто довольно откровенно; на этот раз мы говорили более двух часов, подробно разобрали положение. Я расспрашивал о некоторых лицах, главным образом из придворных кругов. Формулировал я свой главный вопрос следующим образом: способна ли Вена на необходимые реформы в случае победы? Кербер по глубоком размышлении и разборе лиц ответил определенно: нет. Победа усилит старый режим, а новый (Карл) не будет ни в чем лучше; после победоносной войны решающий голос приобретут военные, а они будут централизовать и германизировать, создавая абсолютизм с парламентским украшением. А что Берлин, спросил я, не будет ли он настолько разумен, чтобы толкнуть своего союзника на реформы? Едва ли, последовал ответ.
Если бы у меня было больше места, я бы мог привести из рассказа Кербера о дворе и близких ему сферах множество прямо анекдотических примеров бездарности и нравственного вырождения, но думаю, что это лишнее, так как мемуары Кербера наверно не потеряны. Кербер не смотрел на династию, на Вену и Австрию так, как я, не судил о них с нравственной точки зрения, но тем убедительнее были его политические характеристики.
Нашел я также некоторых своих немецких знакомых по парламенту; они лишь подтвердили мне то, что ранее сказал мне Кербер и что я сам ожидал. Ввиду серьезности вопроса я, однако, хотел слышать то, что сами немцы говорят об Австрии. Из этих разговоров мне прежде всего стало ясно, что военные круги настроили против нас и мирных немцев. Намекали мне, что будут преследования; сообщали и об административных и политических планах (после победы), о которых говорил и Кербер. Между прочим, для меня выяснилось, что у д-ра Крамаржа будут неприятности: его русская политика была для политически неграмотного Фридриха бельмом на глазу; панславизм всех оттенков являлся для Вены и Будапешта пугалом. Я предупредил об этом близких знакомых д-ра Крамаржа.
После посещения Вены моя задача сводилась к подготовке и устройству моего отъезда за границу.
9
Уже в самом начале этих воспоминаний я должен упомянуть о д-ре Бенеше.
До войны я его лично знал мало; зато следил за его парижскими статьями и за всеми его печатными произведениями.
Слышал я о нем особенно много от покойного редактора Крыстынка (в «Часе»). Я замечал, что на нем отражается влияние моего реализма, французского позитивизма и марксизма. Он еще не выкристаллизовался. После объявления войны он пришел и заявил мне, что будет добровольно работать в «Часе». Теперь мы видались чаще. Как-то раз он зашел ко мне на квартиру перед ежедневным заседанием в «Часе», – очевидно, у него было важное дело. Действительно, так и было: он высказался в том смысле, что мы не можем относиться к войне пассивно, а должны что-то предпринять. Он не мог оставаться спокойным и жаждал дела. На это я ему ответил: «Да, я вот уже действую!» Я кое-что ему сообщил, и мы сговорились по дороге в «Час», через Летну. Вспоминаю сцену, когда мы дошли до спуска с моста «Елизаветы»; я остановился, оперся на деревянные перила и смотрел на Прагу – мысли о нашей будущности, о пророчестве Либуши теснились у меня в голове. Но основой для политической деятельности были ведь деньги. Д-р Бенеш оценил свое имущество и тут же обещал несколько тысяч крон. У него было столько, что он мог на свой счет начать работу за границей, мог там жить на свои средства, что вскорости и сделал. Мне мои американские друзья прислали достаточные суммы для меня и семьи; они и позднее не забывали нас. Таким образом, я и Бенеш были лично обеспечены.
Мы обсудили положение в Чехии, в Австрии, в Германии и у союзников, словом, все, что мы должны были тогда предвидеть. Наметили план действий, договорились о помощниках и работниках, как на родине, так и за границей. Д-р Бенеш должен был как можно дольше оставаться в Чехии; переписка со мной должна была быть организована по способу, применявшемуся в русском подполье. Мои познания в этой области много помогли; кроме того, мы многое еще изобрели сами и довольно удачно, как я в этом убедился впоследствии. Д-р Бенеш, прежде чем совсем уехать из Праги, был у меня лично в Швейцарии два раза, в феврале и апреле 1915 г.
Совместная работа с д-ром Бенешем была легка и продуктивна. Не нужно было много говорить; политически и исторически он был так образован, что достаточно было одного слова, чтобы быть им понятым. Планы в деталях разрабатывал он сам и по ним действовал; очень скоро он начал действовать на свой страх и при том очень удачно. До тех пор пока я был на Западе, мы часто виделись и все подробно обсуждали вместе. Переписка, посредством писем и телеграмм, была у нас оживленная. Позднее из России, Японии и Америки я не мог уже так часто ни писать, ни телеграфировать ему; мы думали и работали параллельно. По мере того как развивались события, д-р Бенеш рос; хотя и будучи связан выработанной совместно программой, он действовал при осуществлении главных задач самостоятельно. Он обладал значительной инициативой и огромной работоспособностью. Для нас обоих было большим преимуществом, что мы обладали так называемым горьким житейским опытом: мы оба пробились своим трудом из нужды, а это значит, что у нас была практичность, энергия, отвага. То же самое можно сказать и о Штефанике, о котором буду говорить ниже. Я был вдвое старше и опытнее Бенеша и Штефаника, – естественно, что я стал руководителем; но это определялось также объединяющей силой нашей общей идеи и взаимным пониманием. Они оба очень скоро убедились, что мое знание людей, как на родине, так и за границей, может облегчить успешное руководство.
За все время моего пребывания за границей не возникло между нами ни одного недоразумения; солидарность была редкостная. Нас было немного, но ведь и апостолов не был легион: ясная голова, знание дела, решительность, отвага перед лицом смерти – все это огромные творческие силы. Скоро вокруг нас собрались верные соратники – нас связало дело.
Мы поддерживали также связь с несколькими выдающимися людьми в самой Чехии. Некоторых из них я пригласил на совещание к д-ру Боучку. Для меня было важно, чтобы, помимо депутатов, о деле были информированы и иные люди, менее подозрительные для полиции. Насколько припоминаю, были там: д-р Боучек, д-р Веселый, архитектор Пфеферман, ред. Душек, ред. Гербен, издатель Дубский, д-р Шамал и, конечно, Бенеш. Так возникла «Маффия», которой руководили вначале д-р Бенеш, д-р Шамал и д-р Рашин. После ареста д-ра Рашина и отъезда д-ра Бенеша за границу, руководство перешло к Шамалу и иным. И всюду были прекрасные и храбрые люди, как в этом мы убедились на примере наших солдат.
10
В чем же заключалась наша задача после объявления войны? Коротко говоря, в следующем: понять данную европейскую ситуацию, определить силы обеих воюющих сторон, выяснить, руководствуясь уроками истории, в какую сторону направлено развитие событий, принять решение и потом действовать. Действовать!
Исходя в своих политических взглядах из учения Палацкого и Гавличка, я долгое время, как и многие наши политики, искал аргументов в пользу нашей австрийской ориентации: мучил меня, как и наших вождей возрождения, вопрос о самом народе. Этот вопрос встал передо мной еще в связи с моими работами над выработкой чешской национальной и политической программы; но внимательный читатель этих моих работ должен заметить, что я, как и остальные наши политики, рано начал колебаться между лояльностью и протестом против Австрии и вследствие этого постоянно размышлял о проблеме революции. В работе о национальной идее чешского народа у Палацкого я констатировал основное противоречие между чешской и габсбургско-австрийской идеями: уже ранее высказал я, возражая Палацкому, убеждение, что завоевание нами самостоятельности зависит от усиления и в Европе демократии и социальных тенденций; в течение последующих лет (точнее, начиная с 1907 г.), благодаря более близкому знакомству с династией и Австрией я перешел в оппозицию. Династия, всемогущая в Вене и в Австрии, вырождалась духовно и физически; Австрия была для меня также вопросом нравственным. В этом я расходился с младочешской партией, а позднее с радикалами – я Австрию и династию судил не только с политической, но и с моральной точки зрения. В этом разнилось и мое понимание так называемой позитивной политики, я был за участие в правительстве, но свое положение там я использовал бы не только для реформы писаной конституции, но и всей административной практики в чешском духе. Я всегда стоял, как я это называл, за культурную политику, за истинную демократию; для меня было недостаточно только депутатской узкой политики. Я говорил о «неполитической политике».
Из-за этих взглядов у меня было много споров. Я не буду защищаться и не буду говорить, что мои противники меня недостаточно понимали – признаюсь, что вначале я сам не был достаточно ясен и последователен и делал тактические ошибки, много ошибок. Зато мои противники делали ошибку, вызывавшую особенный отпор, заявляя, что они лучшие из чехов, и что, говоря как Гавличек, они делают патриотическое дело, – в то время как спор шел о цели и содержании понятий чеха и патриотизма. Любовь к народу и отечеству уже должна была подразумеваться, и дело шло о программе этой любви. Я был для своих противников слишком социалистичен, главным же образом их либерализм не мог вынести моей религиозной программы; я, со своей стороны, не мог согласиться с их немецкой, русской и славянской политикой. Для меня, еще будучи в Австрии, в первую очередь стоял вопрос избавиться от Австрии; что касается подданства чужому государству, то, при современном мировом положении, это было для меня второстепенным вопросом. Я ощущал свою борьбу как отвращение к политической и культурной замкнутости, отсталости, пошехонству; я вел бой на двух фронтах – против Вены и против Праги. Радикализм и его тактика казались мне более поддразниванием, чем действительной борьбой. Когда пробил час и мировое положение изменилось, а судьба нас толкала к решению, то не мои прежние противники приняли решения и не они претворили их в необходимое действие. Осуждение Австрии естественно толкало к изучению и наблюдению над Германией; история учила меня, что Австрия, несмотря на всю разницу между нею и Германией, была слита с последней. У меня было своего рода уважение к немцам, особенно, к пруссакам; но со всем прусским, бисмарковским и самим Бисмарком я расходился принципиально. Во внешней и внутренней политике под его руководством расцвел режим крови и железа. На меня произвело большое впечатление, как в 1866 г. Бисмарк ловко удовлетворился тем, что вытолкнул Австрию из Германии, но не желал подчинить себе Вены, дабы, таким образом, теснее привязать ее к Германии. Ошибка была лишь в том, что он все же слишком полагался на Австро-Венгрию, которую, особенно в лице Вены, в глубине души презирал. В 1870–71 годах Бисмарк уже не придерживался тактики 1866 года, аннексия Эльзаса и Лотарингии была ошибкой, несмотря на то, что политика Наполеона III была безрассудна. Наблюдал я и то, как позднее Бисмарк колебался между Россией и Англией. Муж крови и железа хранил в душе еще слишком много старого макиавеллизма.
Новый курс можно было назвать более чем колеблющимся. В области политики и дипломатии он страдал близорукостью и вследствие своей неопределенности и странной импровизации казался всем шатким; колониальная и морская политика были чрезмерны, император Вильгельм настраивал против себя не только Англию, но и Россию и отличался вообще недостатком психологического такта – не понимал ни людей, ни народов. Слишком абсолютистский Бисмарк ожидал от людей более покорности, чем истинного соглашения. При этом Вильгельм слишком односторонне связывал себя с Веной. Его режим стал очень скоро полной противоположностью старо-прусской прямолинейности. Но имперские стремления и мировой империализм, благодаря союзу с возрастающим капитализмом выскочек, стали очень скоро нелепыми и морально сомнительными. И университеты подпали под это влияние. Философия и политика пангерманизма должны были для мыслящих людей служить роковым напоминанием, но так не случилось… Командный состав армии и сама армия (офицерство) были без исключения пангерманизованы. Я постоянно обращал внимание на пангерманизм и призывал к изучению новой мировой политики и к тому, чтобы и наша политика была шире. Отвращение к пангерманизму, которому служили Вена и Будапешт, диктовало мне вмешательство в югославянский процесс и в мировую войну.
Не нужно, конечно, и говорить, что мировую войну я не считал войной германцев со славянами, несмотря на то, что ненависть Австрии к Сербии была поводом, а частично и причиной войны. То, что Бетман-Гольвег и император Вильгельм, Вена и Будапешт обвиняли в войне Россию и панславизм, принуждало к осторожному принятию этой немецкой теории; немецкие профессора (Лампрехт, Готхейп и др.) не могли меня в этом убедить. Я видел в войне гораздо большее. В исторической перспективе мне пангерманский империализм представлялся продолжением старого и затяжного римско-греческого антагонизма, вражды Запада и Востока, Европы и Азии, позднее Рима и Византии; антагонизм этот не только национальный, но и культурный. Пангерманизм и его Берлин-Багдад придал унаследованной Римской империи узкий национальный и шовинистический характер; обе империи – германская и австрийская, возникшие из римско-средневековой империи, соединились для порабощения старого мира. Друг против друга стояли не только германцы и славяне, но и германцы и Запад, культура германская и западная, Запад, включающий в себя также и Америку. На стороне немцев были венгры и турки (болгары уже не имеют такого значения); немцам было важно покорить Европу, Азию, Африку, словом, Старый Свет; против этого восстал остальной мир; и впервые Новый Свет – Америка – пришел на помощь негерманской Европе для отражения немецкого нападения. Сначала Америка была нейтральной, но ее симпатии были на стороне Франции и союзников, и им она сейчас же начала помогать подвозом сырья и оружия. Никто, конечно, не мог знать сначала, что Америка под конец примет участие в войне и будет способствовать ее разрешению. Союз всех народов под главенством Запада служит доказательством, что война не имела исключительно национального характера – это была первая замечательная попытка объединения целого мира, всего человечества. Национальные несогласия были подчинены культурной идее и служили ей. Конечно, интересы скрещивались самым необычайным образом. Обо всем этом я высказал свое мнение в «Новой Европе». Не буду повторяться.
Наше место определялось всей нашей историей. Оно было на антинемецкой стороне. Анализируя европейское положение, определяя возможное развитие войны, я решился на активное сопротивление Австрии, в уверенности, что победят союзники, что наша к ним приверженность принесет нам свободу.
Решение не было для меня легким – дело шло, как я чувствовал и знал, о решении судьбы народа; но для меня было ясно, что в столь великую эпоху мы не можем оставаться пассивными; и самые лучшие права должны быть добыты деятельными людьми, иначе они остаются лишь на бумаге. Если мы не можем восстать против Австрии на родине, то мы должны это сделать заграницей. Там будет нашей главной задачей завоевать симпатии к нам и нашей национальной программе, завязать сношения с политиками, государственными деятелями и союзническими правительствами, организовать единое выступление всех наших колоний за границей, а главным образом организовать из пленных войско. Военная программа была мне ясна с самого начала, как это доказывает мое первое поручение Воске в Лондон. С самого начала боев в Галиции (с 10 августа) русские взяли в плен значительное количество австрийских солдат; в половине сентября, по моим расчетам, там должно было быть около 80 000 человек. Уже среди них должно было быть не менее 12 000–15 000 чехов, которые бы могли записаться в дружину, а число пленных все росло, а с ними и количество наших будущих солдат. План формировать войско за границей был настолько естественным, что наши колонии начали его всюду одновременно осуществлять.
Наконец, было необходимо, чтобы иностранная организация была в связи с родиной; само собой случилось так, что уже одно существование заграничного организационного руководительства оказывало возбуждающее влияние на родине. Все это, конечно, могло требовать все больших и больших жертв – но свободу нельзя добыть без жертв.
Мне, конечно, не приходится говорить, что при всех решениях по вопросу о восстании против Австро-Венгрии в глубине души у меня звучали вопросы: готовы ли мы к действиям, созрели ли мы для свободы, для самоуправления и сохранения самостоятельного государства, состоящего из чешских земель Словакии и многих национальных меньшинств? Достаточно ли у нас настолько политически зрелых людей, которые бы поняли действительный смысл войны и задачу народа в ней? Угадаем ли мы решающий исторический миг? Сумеем ли мы на самом деле действовать – снова действовать? Загладим навсегда Белую Гору? Преодолеем в себе Австрию и ее столетнее воспитание?
«Верю и я, Господи, что пронесется вихрь гнева твоего и вернется к тебе, о народ чешский, право и мощь твоя».
Перед отъездом я набросал для д-ра Бенеша и его помощников план антиавстрийского движения на родине: я принял в соображение все возможности и подробно определил, что необходимо делать в том или ином случае. Разговорами с д-ром Бенешем в Швейцарии, а также и письмами я план дополнил. В каждой войне – а революция тоже война – дело не только в преданности и мужестве, но и в продуманном плане и в организации всех сил под единым руководством.



