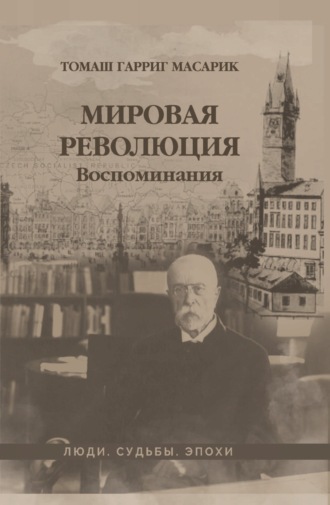
Томаш Масарик
Мировая революция. Воспоминания
3
У меня возникало довольно сильное беспокойство и вследствие хода войны: кто победит? На этот вопрос в 1914 году и даже позднее не было возможности ответить с уверенностью и точностью.
С самого объявления войны занялся я изучением некоторых неизвестных еще мне работ о современной войне: дело было в том, как уже говорил выше, чтобы определить, будет ли война затяжной или нет, и в зависимости от этого выяснить наши возможности и организовать работу. Среди специалистов не существовало единомыслия по этому вопросу, в общем преобладало мнение, как у союзных, так и враждебных специалистов (напр. Фош), что современная война должна быть краткой. Известный французский публицист Леруа Болье определял длительность войны в 7 месяцев; политики, как Ганото, Баррес, ожидали скорого окончания войны благодаря «паровому катку». Немцы, со своей стороны, предвидели скорое уничтожение французской армии, ссылаясь на пример 1870 г. Стремительное наступление на Бельгию и Люксембург на севере и на Эльзас-Лотарингию на юге, казалось, сперва поддерживало эти ожидания. Начало военных действий не было благоприятно для Франции – Париж оказался под ударом немцев, в действительной опасности, и французское правительство переехало 2 сентября в Бордо. Я желал, чтобы прав был Китченер, но с другой стороны, в зависимости от того, что я о нем слышал, я сомневался, достаточно ли он компетентен в данном вопросе.
О положении вещей на фронте до моего отъезда из Праги я не мог ничего решить: особо тяжелой задачей являлась для меня битва при Марне. Я принимал взгляд французов и англичан, считавших, что немцы битву проиграли, а потому отошли на вторые линии; но одновременно французы отступили от Мозеля к Марне, и это отступление необходимо было считать поражением. Удивляло меня также, почему французы после победы не наступают. Немцы подчеркивали, что значительное количество своих войск, целых два корпуса, они перебросили с французского фронта на русский, в Восточную Пруссию, т. е. что они были на французском фронте много слабее и сражение при Марне решающего значения не имеет. Союзники имели сначала численный перевес, а потому французское отступление подействовало на меня особенно тяжело. Я был знаком с несколькими хорошими знатоками военного дела в австрийской армии, но никак не мог с ними встретиться; только за границей я получил впоследствии сведения от военных и прочитал более подробные донесения. Потом я уже и сам убедился, что немцы действительно проиграли битву на Марне.
Обнадеживающее впечатление от битвы на Марне было усилено затяжным сражением у Ипра за берег канала (с 20 октября по 11 ноября). И в этом случае немцам не удалось повести свой план и завладеть каналом и его портами, из которых они бы могли угрожать Англии (Дюнкирхен, Калэ, Булонь). Они должны были отступить по всей линии и решиться на позиционную войну; наступление не удалось, расчеты оказались сомнительными и этим был дискредитирован весь план.
Турция (12 ноября) примкнула к Центральным Державам, и Малая Азия, Египет и Балканы благодаря этому приобретали большое значение, как в военном, так и в политическом отношении. Что будет делать Болгария, Греция, Румыния? «Таймс» резко критиковал политику Англии по отношению к Турции (были конфискованы два крейсера, строившиеся в Англии для Турции). Благодаря тому, что Англия взяла на себя протекторат над Египтом (18 декабря), борьба за Малую Азию сильно обострилась. Война осложнялась, надо было предполагать, что она затянется. Взятие Валоны итальянцами (26 октября) лишний раз доказывало сложность положения.
О моих размышлениях по поводу войны, о моих сомнениях и надеждах читатель узнает из статьи по поводу войны, написанной в самом ее начале (в августе) для журнала «Наша Доба», где я указывал на военное, экономическое и политическое значение мирового конфликта; там я изложил волнующие меня вопросы так же, как и надежды – австрийский цензор пропустил эту статью, хотя выбросил у меня в том же номере часть моей старой статьи о Балканах и рассуждения Дени о нашем положении в «Международной лиге охраны прав народов». В этих статьях (так же, как и в заметке «Божьи ратники») уже в начале войны я изложил свою политическую программу. В следующих номерах я начал ряд статей, вернее, критических поучений для мыслящих людей о задачах войны. Так же, как и в «Нашей Добе», писал я и в газете «Час».
Военные карты изучал я весьма подробно каждый день: политика теперь делалась на полях сражения, и таковой она стала на долгое время; по поведению обеих сторон можно было судить о целях войны, о силе и ловкости друзей и врагов.
Неудача Австрии в Сербии, поражение Потиорека, наконец, освобождение в декабре (13) Белграда подтверждали наши надежды на победу. Не в такой степени поддерживало их русское наступление на Краков и к путям на Словакию, так как против этого можно было противопоставить большой минус в Восточной Пруссии (Гинденбург – Танненберг, Мазурские озера). Конечно, австрийцы и немцы сильно ошибались, недооценивая русскую армию, в особенности артиллерию, но все же то, что я знал о русском войске и его командном составе, внушало мне всяческие опасения. В то время газета «Час» печатала весьма популярные статьи о войне, особенно о русских наступлениях и отступлениях: у нас бывали каждый день совещания, и мы делали по сообщениям и положению войск свои заключения. В редакции одни были оптимистами, безграничными оптимистами, я же был сдержан, скорее скептичен; в редакции шутили, что первый, кто будет повешен при вступлении русских в Прагу, буду я… Время от времени различными замечаниями я обращал внимание на неподготовленность русских и касался критически не только способностей Сухомлинова, но и самого генералиссимуса, несмотря на его патриотические и славянские манифесты. Ведь все же я был прав! Я полагаю, что одним из лучших моих политических определений и решений было то, что я не поставил наше народное дело лишь на одну русскую карту, что я усиленно стремился обеспечить нам симпатии всех союзников и восстал против тогдашнего пассивного и некритического русофильства.
4
Какое было тогда у нас настроение, было видно по всему. Рассказывали, что торговки приберегают лучших гусей для русских; всем также известно, как всюду распространялся переписанный манифест Николая Николаевича и сообщение об аудиенции у царя, и как преследовали тех, у кого это находили. Приходит на память сцена на Фердинандской улице. Меня остановил на улице знакомый, весьма радикальный редактор, и радостно показал переписанное сообщение о первой аудиенции русских чехов у царя; он был чрезвычайно разочарован, когда я вернул ему бумажку, заметив, что все это имеет весьма малое политическое значение. Ведь царь депутации не сказал ничего определенного; я допускал, что принятие депутации было успехом и имело, как было видно на редакторе, хорошее влияние для поддержания надежд.
Подобных переписанных сообщений ходило много по рукам. Говорили, что по ночам их сбрасывают русские авиаторы, но, судя по содержанию и слогу, мне казалось, что некоторые из них апокрифичны.
Австрийцы обращались с русскими пленными и с теми, кого война застала вне родины, очень сурово (хуже обращались лишь с сербами); я это видел собственными глазами, когда хлопотал об освобождении интернированного Максима Ковалевского, которого война застала в Карловых Варах, и посаженной в тюрьму журналистки Звездич.
Несколько раз виделся я с депутатом Калиной, которому уже ранее сообщал кое-что о своих заграничных сношениях. Говорил я ему об опасности, грозившей соколам со стороны австрийского генералиссимуса, и мы вместе взвешивали ту роль, какую могли бы взять на себя сокола в данный момент, особенно же при ожидаемой оккупации. Свел он меня с д-ром Шейнером.
С ним мы сговорились, что сокола, в случае русской оккупации, пошли бы в народную милицию, а смотря по обстоятельствам и необходимости, и в национальное войско. Я не скрывал перед ним своих сомнений относительно русской армии и политики и обратил его внимание на возможность необходимости русского отступления в случае, если бы немцы наступали через Саксонию, а австрийцы с юга и т. д. Возможность и даже вероятность того, что русские, дойдя до Моравии и даже до Чехии, должны будут потом отступать, была, судя по предыдущему опыту, велика. Требовалась большая и сознательная осторожность, чтобы избегнуть позднее жестокой мести австрийцев, которая могла бы терроризировать в будущем народ.
Доктор Шейнер сам был весной в России и убедился, что политическая связь с Россией была слаба, вернее ее вовсе не было; Сазонов его обвинял в том, что чешские политики, собственно, мало заботились о России, и потому русские их не знают. Также откровенно он сказал, что мы не должны рассчитывать на Россию и что русская армия не готова к решительной войне. Подобным же образом высказывался Сазонов в разговоре с депутатом Клофачем немного ранее (в январе), прибавив, что великие державы войны не хотят. Но у нас об этом открыто не говорилось, а потому об этом и не знали: общественное мнение было некритически русофильское, от русских и их казаков ожидалось освобождение.
В противовес этому я высказывал д-ру Шейнеру свои сомнения о достаточной силе русского оружия. Объяснял также, что боюсь русской династии, и даже в лице наместника, что русские, вследствие незнания местных условий и людей, вследствие своего абсолютизма и бесшабашной жизни, очень скоро уничтожат наше русофильство.
Д-р Шейнер мне возражал, что при современных условиях русский на троне был бы наиболее популярным и что мы должны уважать общественное мнение. Я признал справедливость этого взгляда: конечно, теперь уже не было времени учить широкие массы и рассказывать им об истинном положении России; особенно подробно и ясно я изложил это свое мнение Сетон-Ватсону, а он, в свою очередь, постарался объяснить его в своем меморандуме, поданном Сазонову. Для меня было важно, чтобы на это было обращено внимание официальной России; это было в интересах наших отношений с Россией. В своей заграничной пропаганде и особенно в меморандумах, передаваемых союзническим правительствам, я приводил русофильский взгляд как наиболее распространенный; лично я, в случае крайней необходимости, предпочел бы кандидата какой-либо из западных династий или, по крайней мере, того, кто у них пользуется влиянием.
Но сейчас же я должен оговориться, что за границей я нигде и никогда ни о каком кандидате в короли переговоров не вел; свое мнение я высказал лишь самым близким друзьям за границей, чтобы в нужную минуту они были осведомлены. Различные сообщения о том, будто, бы я вел переговоры с английскими и иными принцами – совершенно неправильны. Лично я был за республику, но сознавал, что в тот момент большинство было за королевство; тогдашнее поведение социал-демократии в Германии и у нас, ее отношение к династиям, склоняли к серьезным размышлениям о форме правления; убийство Жореса не менее. Конечно, вопрос о республике еще не был своевременным. Только русская революция всюду усилила республиканство; у нас было то же самое. Мне кажется, что еще русские поражения потрясли у нас веру в русскую династию на чешском троне!
С д-ром Шейнером вел я также переговоры о финансировании заграничного движения; он тотчас же предложил известную сумму для его начала. Мы думали о возможности употребления денег сокольских организаций, которые позднее, вследствие какой-то юридической трансакции, нельзя было трогать. В данный момент я должен был обратиться к американским чехам. Получил я адрес Штепины в Чикаго.
5
О русофильском настроении – едва ли это была политика – я должен сказать еще несколько слов; вопрос был важный и, благодаря непредусмотримому развитию событий, приобрел еще большее значение.
У наших политиков русофильского направления хотя и была славянская программа максимум, но довольно неясная: после русской победы (в ней никто не сомневался) создастся славянская великая держава, к России присоединятся малые славянские народы; насколько мне тогда сообщали, большинство русофилов удовлетворялось соблазнительной аналогией со звездной системой: около России – солнца должны были вращаться планеты – славянские народы. Часть русофилов желала некую автономию в этой русской федерации – какой-нибудь из великих князей должен был бы быть наместником в Праге. Я занимался изучением России и отдельных славянских народов давно, собственно говоря, всю жизнь; основываясь на своем знакомстве с положением дел, я от царской России спасения не ждал, наоборот, я ждал нового издания японской войны, а потому был за энергичную заграничную работу не только в России, но и в остальных союзнических государствах, дабы мы могли заручиться симпатией и помощью всех. Я настаивал и на выезде д-ра Крамаржа за границу, чтобы мы там могли разделить работу; но д-р Крамарж не хотел ехать за границу (я не имел возможности лично вести переговоры с д-ром Крамаржем) и полагал, что русские сами разрешат окончательно чехословацкий вопрос. Я не мог с этим согласиться: я опасался, что Россия войны не выдержит и что вспыхнет революция; боялся я также, что у нас будет огромное духовное разочарование и упадок, если Россия не будет в состоянии нам помочь, а мы возложим на нее все надежды на спасение.
Я следил весьма внимательно за ходом дел в России, а особенно в русской армии. Последний раз я был в России в 1910 году и, как при каждой поездке в Россию, весьма основательно и из верных источников информировался о положении русской армии. Упадок и деморализация, так ужасно проявившие себя в войне с Японией, не были отстранены. Проводились реформы, и армия получала новое вооружение, но особенного прогресса не было видно. Это мне подтверждали проверенные сообщения во время балканских войн и позднее, до самого объявления войны. Я не доверял русскому командному составу и разным великим князьям. Ужасный факт, что русские солдаты должны были обороняться против немцев палками и камнями – показывает все легкомыслие царской России. Австрийские великие князья в австрийской армии не уравновешивали великих князей в русской.
Кажется, в мае 1914 г. «Новое Время» напечатало статью о неподготовленности России к войне, в том же духе, как говорил с нашими Сазонов. Чешская пресса обратила на это внимание, но скоро все об этом забыли и ожидали чудесной и скорой победы России. К оправданию наших оптимистов, нужно указать на подобных же оптимистов и у союзников.
Я хорошо понимал, что наше общество было в восторге от официальных заявлений России; в них говорилось о славянах и о братстве, а нашему общественному мнению, не воспитанному ни для реальной, ни для мировой политики (благодаря войне и для нас она настала) этого было вполне достаточно. Я внимательно читал все эти заявления. В русском манифесте о войне (2 августа) говорится о славянах, родственных по крови и вере. Славянами и братьями для официальной России уже давно были балканские православные славяне. Царь (9 августа) снова говорит членам Думы о единоверных братьях, а потому дальнейшая фраза «полное и нераздельное единение славян с Россией» не была для меня точной и ясной программой, не говоря уже о том, можно ли так тесно слить с Россией поляков, болгар, сербов, хорватов, словинцев и нас. На военном торжестве в Москве (18 августа) представитель дворянства назвал войну защитой славянства против пангерманизма, а царь на это ответил, что дело идет о защите России и славянства, не упомянув в этом случае о вере; но это само собой подразумевалось.
Сазонов, как министр иностранных дел, заявил Думе, что историческая задача России заключается в протекторате над балканскими народами (также и неславянскими); воля Австрии и Германии не может быть законом для Европы.
Прекрасный был манифест к полякам (15 августа), и сами поляки приняли его с волнением и благодарностью. Позднее я узнал, что его писал Сазонов. Меня немного удивляло то, что хотя манифест был дан от имени царя, но подписан был лишь Николаем Николаевичем, точно так же как австрийский император говорил с поляками устами своего генералиссимуса. Очень скоро между поляками и русскими возобновилась старая вражда и не только по вине поляков. Царская Россия показывала шаг за шагом, что думает всерьез не о независимости Польши, а лишь об автономии; в конце концов Трепов это ясно заявил, а царь за ним повторил.
Военные манифесты Николая Николаевича мне не нравились, они были пышными и неясными: особенно его манифест к народам Австро-Венгрии. Скоро этот манифест начал ходить по рукам в различных вариациях: он был издан на девяти языках и особенно словацкий текст отличался от чешского и иных, в нем было особое и непосредственное обращение к словакам. Ходил по рукам также особый манифест к чешскому народу, но он мне казался подделкой, вышедшей из рук или наших людей или австрийской полиции: в русских собраниях документов и в газетах я его не нашел.
В речах депутатов в Думе говорилось о славянах очень мало: польский представитель говорил о славянах лишь затем, чтобы не говорить о русских. Милюков упомянул о борьбе против перевеса германцев над Европой и славянством.
Из всех этих официальных заявлений не мог я получить об официальной России иного мнения, чем то, какое имел ранее, благодаря своим изучениям и наблюдениям.
У нас сильно подымали настроение сообщения о «Дружине» в России и о царском обращении к нашим соотечественникам. Подробности не были известны, да и вообще серьезно не взвешивались русское и международное положение. Политическое давление со стороны Австрии и усталость от бессильного шатания перед венской тюремной решеткой усиливали то некритическое русофильство, которое ожидало спасения от великой России и убеждало, что для этого даже не нужно активного сопротивления («Русские с нами» и т. д.).
Примером того, насколько неясно русская печать писала о славянском вопросе, может служить «Русское Слово», доступное нам благодаря цитате в киевском «Чехословане». «Русское Слово» комментирует обращение Николая Николаевича к австрийским народам следующим образом: «Настает великий момент. Разноплеменные народы Австро-Венгрии призваны к новой жизни. Босния, Герцеговина, Далмация и Хорватия сольются с Сербией, Седмиградия (Трансильвания) и южная Буковина с Румынией, Истрия и южный Тироль с Италией. Более сложен вопрос о судьбе чехов-словенов, венгров и австрийских немцев. Нельзя ничего возразить против немецкой Австрии в ее этнографических границах, но недопустимо, чтобы этот немецкий край был присоединен к Германии, так как таким образом Германия вышла бы из войны более сильной, чем до нее. Независимая Австрия должна отделять Германию от Ближнего Востока. На пути к созданию независимого чешского государства лежит вопрос о выходе к морю, вопрос, который невозможно разрешить в этнографических и исторических границах чешской народности. Венгрия получит самостоятельность, и роковая ошибка 1849 года будет исправлена. При том, однако, Венгрия должна быть ограничена лишь территорией с венгерским населением».
Мне кажется, что статью русской газеты нет надобности объяснять – она полна неясности и туманности, главным образом в вопросах о судьбах нашего народа и Австрии, которая должна была отделить Германию от «Ближнего Востока»; пусть только читатель посмотрит на карту, представит себе подобную Австрию, и он убедится в русских неясностях в польском и чешском вопросах. То же самое можно сказать о словинцах и т. д. Более точна лишь сербская и румынская программы.
Мое критическое отношение к России было, конечно, обоснованным и единственно верным. Но теперь было уже поздно критиковать открыто Россию и вводить в колею наших русофилов. Кроме того, взбудораженные войной, они не поняли бы моей критики, как не понимали ее и перед войной. Большинство людей до сих пор не понимает, что подразумевал Неруда под сознательной любовью. В данном случае, я мог спокойно сказать, что любил Россию, т. е. русский народ не менее, чем наши русофилы, но любовь не может и не должна одурманивать разум. Больше того, участие в войне и революции требует хладнокровия и ясности мысли: войны и революции не делаются лишь фантазией и восторгом, чувством и инстинктом, во всяком случае, только ими они не выигрываются. Я следовал завету Гавличка, который нам впервые указал Россию такой, какая она есть в действительности, и ничто никогда не могло меня от этого отвратить. И я ясно сознавал, когда и в какой мере демократический политик, – особенно демократический политик, может и должен руководствоваться мнением большинства и даже всеобщим мнением.
Россия, особенно официальная Россия, а именно от этой России и зависели решения во время войны, имела свою особую славянскую проблему: стремление овладеть Константинополем. Стремление это, с давних пор усиленное и освященное религиозным вопросом, сталкивалось с противодействием Австрии, которая, следуя за Римом и за пангерманской идеей, также протискивалась на Балканы. Малые балканские народы были одинаково средством к достижению цели как для России, так и для Австрии. В религиозном отношении здесь сталкивались католическая австрийская династия и православная русская; Австрия и Россия боролись за преобладание и влияние в Сербии, Румынии и Болгарии. Эти земли находились в соседстве у обоих соперников, были им близки и по своему историческому развитию, а потому о них шла речь в первую очередь.
Политический и религиозный антагонизм сделали из России и Австрии давних соперников также и на севере, в Галиции и Польше.
Вот в чем заключался, по существу, весь славянский вопрос для официальной России, причем судьбы славянства как таковые были издавна подчинены политическим и культурно-церковным планам.
Славянство в смысле национальном и еще более широком – как всеславянство – в России представляли себе лишь некоторые слависты, историки и часть интеллигенции; но и они подходили к нему со своей русской, особой религиозной точки зрения. Поэтому для русских наш чешский, хорватский и словенский вопросы были менее жгучими. Русский народ знал лишь кое-что о православных братьях на Балканах.
Радикальная часть интеллигенции, особенно социалисты, будучи настроены антиправительственно, были и против официального русского национализма и славянофильства, а также не сочувствовали нашим национальным усилиям. Все это мы сами пережили и испытали позднее в России во время войны.
Такова была и есть российская действительность. У нас эту действительность не знали в достаточной степени; большинство наших русофилов жило смутными представлениями о России; Россия была для них великой и могущественной, а так как нам была необходима в борьбе против Австрии и Германии чужая помощь, – великая, братская Россия должна была нас спасти. Понятная психология и политика – уже Коллар указывал, почему идея славянской солидарности возникла в маленькой Словакии.



