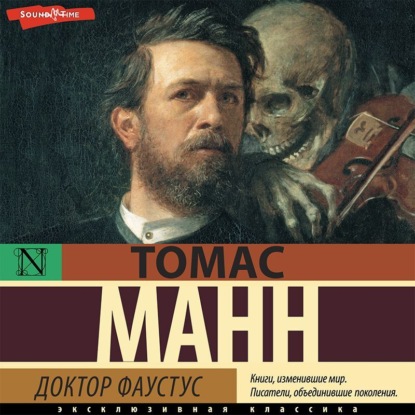Полная версия:
Томас Манн Иосиф и его братья
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Томас Манн
Иосиф и его братья
© S. Fischer Verlag AG, Berlin, 1933
© S. Fischer Verlag AG, Berlin, 1934
© Bermann-Fischer Verlag GmbH, Wien, 1936
© Bermann-Fischer Verlag AB, Stockholm, 1943
© Katia Mann, 1967
© Перевод. С. Апт, 2010
© Издание на русском языке AST Publishers, 2010
* * *Пролог сошествие в ад
1Прошлое – это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?
Так будет вернее даже в том случае и, может быть, как раз в том случае, если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наша собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горестей жизнь, о бытии, тайна которого, являясь, что вполне понятно, альфой и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми. Ведь чем глубже тут копнешь, чем дальше проберешься, чем ниже опустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы ни погружали его. Да, именно «снова и снова»; ибо то, что не поддается исследованию, словно бы подтрунивает над нашей исследовательской неуемностью, приманивая нас к мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу же открываются новые дали прошлого. Вот так же порой не можешь остановиться, шагая по берегу моря, потому что за каждой песчаной косой, к которой ты держал путь, тебя влекут к себе новые далекие мысы.
Поэтому практически начало истории той или иной людской совокупности, народности или семьи единоверцев определяется условной отправной точкой, и хотя нам отлично известно, что глубины колодца так не измерить, наши воспоминания останавливаются на подобном первоистоке, довольствуясь какими-то определенными, национальными и личными, историческими пределами.
Юный Иосиф, к примеру, сын Иакова и миловидной, так рано ушедшей на Запад Рахили, Иосиф, что жил в ту пору, когда на вавилонском престоле сидел весьма любезный сердцу Бел-Мардука коссеянин Куригальзу, властелин четырех стран, царь Шумера и Аккада, правитель строгий и блестящий, носивший бороду, завитки которой были так искусно уложены, что походили на умело выстроенный отряд щитоносцев; а в Фивах, в преисподней, которую Иосиф привык называть «Мицраим» или еще «Кеме, Черная», на горизонте своего дворца, к восторгу ослепленных сынов пустыни, сиял его святейшество добрый бог, третий носитель имени «Амундоволен», телесный сын Солнца; когда благодаря могуществу своих богов возрастал Ассур, а по большой приморской дороге, что вела от Газы к перевалам Кедровых гор, между двором фараона и дворами Двуречья, то и дело ходили царские караваны с дарами вежливости – лазуритом и чеканным золотом; когда в городах амореев, в Бет-Шане, Аялоне, Та’Анеке, Урусалиме служили Аштарти, когда в Сихеме и в Бет-Лахаме звучал семидневный плач о растерзанном Истинном Сыне, а в Гебале, городе Книги, молились Элу, не нуждавшемуся ни в храме, ни в обрядах; итак, Иосиф, что жил в округе Кенана, в земле, которая по-египетски называлась Верхнее Ретену, неподалеку от Хеврона, в отцовском стойбище, осененном теребинтами и вечнозелеными скальными дубами, этот общеизвестно приятный юноша, унаследовавший, к слову сказать, приятность от матери, ибо та была прекрасна, как луна, когда она достигает полноты, и как звезда Иштар, когда она тихо плывет по ясному небу, но, кроме того, получивший от отца недюжинные умственные способности, благодаря которым он даже превзошел в известном смысле отца, – Иосиф, стало быть, в пятый и шестой раз называем мы это имя, и называем его с удовольствием: в имени есть что-то таинственное, и нам кажется, что, владея именем, мы приобретаем заклинательскую власть над самим этим мальчиком, канувшим ныне в глубины времени, но когда-то таким словоохотливым и живым, – так вот, для Иосифа, например, все на свете, то есть все, что касалось лично его, началось в южновавилонском городе Уру, который он на своем языке называл «Ур Кашдим», что значит «Ур Халдейский».
Оттуда в далеком прошлом – Иосиф не всегда мог толком сказать, как давно это было, – отправился в путь один пытливый и беспокойный искатель; взяв с собой жену, которую он из нежности, по-видимому, любил называть сестрою, а также других домочадцев, этот человек, по примеру божества Ура, Луны, пустился в странствия, поскольку такое решение показалось ему самым верным, наиболее сообразным с его неблагополучным, тревожным и, пожалуй, даже мучительным положением. Его уход, явившийся, несомненно, знаком недовольства и несогласия, был связан с некими строениями, запавшими ему в душу каким-то обидным образом, которые были, если не воздвигнуты, то, во всяком случае, обновлены и непомерно возвышены тогдашним царем и Нимродом тех мест, радевшим, как втайне был убежден пращур из Ура, не столько о вящей славе божественных светил, которым эти постройки были посвящены, сколько о том, чтобы воспрепятствовать рассеянию своих подданных и вознести к небесам знаки своей двойной – Нимрода и властелина земного – власти, власти, из-под которой предок из Ура как раз и ушел, ибо рассеялся, пустившись вместе со своими близкими куда глаза глядят. Предания, дошедшие до Иосифа, не вполне сходились в вопросе о том, что именно вызвало гнев недовольного странника: громадный ли храм бога Сина, имя которого, звучавшее в названии страны Синеар, слышалось также в более привычных словах, например, в наименовании горы Синай; или, может быть, само капище Солнца, Эсагила, огромный Мардуков храм в Вавилоне, достигавший, по воле Нимрода, неба своей вершиной и хорошо известный Иосифу по устным описаниям. Этому искателю претило, конечно, и многое другое, начиная от нимродовского могущества вообще и кончая отдельными обычаями, которые другим представлялись священными и незыблемыми, а его душу все больше и больше наполняли сомнением; а так как с душою, полной сомнений, не сидится на месте, то он и тронулся в путь.
Он прибыл в Харран, город Луны на Севере, город Дороги в земле Нахараин, где провел много лет и собирал души тех, кто вступал в близкое родство с его приверженцами. Однако родство это почти ничего, кроме беспокойства, не приносило, – беспокойства души, которое, хоть и выражалось в непоседливости тела, все-таки не имело ничего общего с обычным скитальческим легкомыслием и бродяжнической подвижностью, а было, скорее, изнурительной неугомонностью избранника, в чьей крови только-только завязывались дальнейшие судьбы, между подавляющей значительностью которых и снедавшей его тревогой существовало, должно быть, какое-то точное и таинственное соответствие. Поэтому-то Харран, куда еще простиралась власть Нимрода, и в самом деле оказался всего только «городом Дороги», то есть местом промежуточной остановки, с которого этот подражатель Луны вскоре опять снялся, взяв с собой Сару, свою сестру во браке, и всех своих родных, и их и свое имущество, чтобы в качестве их вождя и махди продолжать свою хиджру к неведомой цели.
Так он пришел на Запад, к амореям, что населяли Кенану, где тогда правили сыны Хатти, пересек эту землю в несколько переходов и продвинулся далеко на юг, под другое Солнце, в Страну Ила, где вода бежит вспять, не так, как воды рек Нахарины, и где по течению плывешь на север; где косный от старости народ поклонялся своим мертвецам и где беспокойному урскому страннику нечего было искать или добиваться. Он вернулся на Запад, то есть в край, лежащий между Страной Ила и Нимродовым царством, и, поладив с тамошними жителями, обрел относительную оседлость на юге этого края, неподалеку от пустыни, в гористой местности, бедной пашнями, но зато богатой пастбищами для его коз и овец.
Предание утверждает, будто его бог, бог, над чьим образом трудился его дух, высочайший среди богов, на безраздельное служение которому подвигали его любовь и гордость, бог вечности, которому он никак не находил достойного имени, а потому соотнес с ним множественное число и называл его на пробу Элохим, то есть божество, – предание утверждает, будто Элохим дал ему некие далеко идущие, но вместе с тем и вполне определенные обещания, в том смысле, что он, странник из Ура, должен был стать народом, многочисленным, как песок и звезды, и благословением всем народам, а земля, где покамест он жил чужестранцем и куда привел его из Халдеи Элохим, должна была целиком и навеки перейти в его и его потомков владение, причем бог богов поименно перечислил нынешних владельцев этой земли, народы, «врата» которых должны были принадлежать потомкам человека из Ура, то есть которым бог, заботясь об урском страннике и его семени, назначил рабство самым недвусмысленным образом. Эти сведения нужно принять с осторожностью или, во всяком случае, правильно понять. Перед нами позднейшие нарочитые вставки, и задача их – узаконить политические отношения, сложившиеся только благодаря войне, ссылкой на давнишний замысел бога. В действительности нрав этого лунного странника был совсем не таков, чтобы от кого-либо получать или у кого-либо вымогать политические обещания. Нет никаких доказательств, что, покидая родину, он уже заранее облюбовал для себя страну амурреев; а то, что он в виде опыта посетил также страну могил и курносой девы-львицы, говорит, скорее, как раз о противном. И если сперва он покинул могучее государство Нимрода, а потом поспешил уйти из многославного царства двухвенцового владыки оазисов и вернулся оттуда на Запад, то есть в страну, обреченную из-за своей раздробленной государственности на политическое убожество, то это отнюдь не свидетельствует о его пристрастии к имперскому величию и о его склонности к политическим прозрениям. Силой, заставившей его сняться с места, была тревога духовная, забота о боге, и если он сподоблялся каких-то обетований, в чем сомневаться непозволительно, то относились они к распространению того нового и особого восприятия бога, которому он с самого начала и старался приобрести сторонников и радетелей. Он страдал и, сопоставляя меру своего внутреннего беспокойства с мерой его у огромного большинства людей, заключал, что его страдания служат будущему. Не напрасна, говорил ему новооткрытый бог, твоя мука, твоя тревога. Она оплодотворит множество душ, родит себе стольких приверженцев, сколько песка на дне морском, и повлечет за собой великое множество событий, зародыш которых в ней заключен, – одним словом, ты будешь благословением. Благословением? Вряд ли это слово верно передает смысл того, что предстало ему в видении и что соответствовало его душевному складу, его ощущению самого себя. В слове «благословение» есть та оценка, которая не подходит для деятельности таких натур, как он, людей внутренне беспокойных и непоседливых, чьи новые представления о боге призваны определить будущее. Жизнь тех, с кого начинается та или иная история, очень и очень редко бывает чистым и несомненным «благословением», и совсем не это нашептывает им их самолюбие. «И будешь судьбою» – вот более четкий и более верный перевод слова обета, на каком бы языке оно ни было сказано; а уж означает ли эта судьба благословение или нет, это вопрос другой, вопрос, второстепенность которого явствует из того, что на него всегда и без всяких исключений можно ответить по-разному, хотя на него отвечали, конечно, утвердительно члены той возраставшей физически и духовно семьи, которая признавала бога, выведшего из Халдеи урского странника, истинным Баалом и Адду круговорота, семьи, образование которой Иосиф считал началом своей собственной, духовной и физической жизни.
2Иногда он даже считал лунного странника своим прадедом, что, однако, решительно выходит за пределы возможного. Да он и сам отлично знал из всяческих наставлений, что все это дела более давние. Не такие, однако, давние, чтобы тот владыка земной, чьи пограничные, со знаками зодиака столпы оставил позади себя странник из Ура, был и в самом деле Нимродом, первым царем на земле, породившим синеарского Бела. Судя по таблицам, это был законодатель Хаммурагаш, обновивший упомянутые города Луны и Солнца, и если юный Иосиф отождествлял его с древнейшим Нимродом, то это была игра мыслей, которая придавала Иосифу известную прелесть, но нам совсем не к лицу. Точно так же он порой путал урского странника с дедом своего отца, носившим то же или почти то же имя. Между мальчиком Иосифом и странствием его духовного и физического предшественника был, согласно времяисчислительным выкладкам, отнюдь не чуждым ни его эпохе, ни его культуре, промежуток поколений в двадцать, то есть примерно в шестьсот вавилонских солнечных лет – такой же, как между нами и готическим средневековьем – такой же и все-таки не такой же.
Хотя время по звездам мы отсчитываем в точности так же, как там и тогда, то есть как отсчитывали его задолго до урского странника, и хотя мы, в свою очередь, передадим этот счет самым далеким нашим потомкам, значение, вес и насыщенность земного времени не бывают одинаковы всегда и везде; у времени нет постоянной меры даже при всей халдейской объективности его измерения; шестьсот лет тогда и под тем небом представляли собой нечто иное, чем шестьсот лет в нашей поздней истории; это была полоса более спокойная, более тихая, более ровная; время было менее деятельно, в ходе его не так сильно, не так резко менялись вещи и мир, – хотя, конечно, за эти двадцать человеческих веков оно произвело очень существенные изменения и перевороты, даже перевороты в природе, изменившие земную поверхность в поле зрения Иосифа, как то известно нам и было известно ему. В самом деле, куда девались к его времени Гоморра и резиденция Лота, человека из Харрана, вступившего в близкое родство с урским искателем, – Содом, куда девались эти сластолюбивые города? Щелочное, свинцово-серое озеро разливалось там, где процветало их беззаконие, ибо на местность эту обрушился такой страшный, такой на вид всегубительный ливень смолы и серы, что дочери Лота, вовремя с ним бежавшие, те самые, которых он хотел выдать похотливым содомлянам взамен неких высоких гостей, – что они, вообразив, будто кроме них, не осталось людей на земле, в женской своей заботе о продолжении рода человеческого совокупились с собственным отцом.
Вот, значит, какие зримые преобразования эти века все же произвели. Бывали времена благословенные и недобрые, изобилие и недород, бушевали войны, менялись правители, появлялись новые боги. И все-таки в целом то время было консервативней, чем наше, – образом жизни, складом ума и привычками Иосиф куда меньше отличался от своего предка из Ура, чем мы от рыцарей крестовых походов; воспоминания, основанные на устных, передававшихся из поколения в поколение рассказах, были непосредственнее, интимнее и вольнее, а время однороднее и потому обозримее; короче говоря, юного Иосифа нельзя было осуждать за то, что он мечтательно уплотнял время и порой, в часы меньшей собранности ума, например, ночью, при лунном свете, считал урского странника дедом своего отца – причем этой неточностью дело даже не ограничивалось. Вероятно, добавим мы теперь, этот пращур вовсе не был в действительности выходцем из Ура. Вероятно (днем, в часы ясности, это казалось вероятным и юному Иосифу), этот урский предок вообще не видел лунного города Уру, ибо ушел оттуда на север, в Харран, что в земле Нахарин, еще его отец и, значит, тот, кто ошибочно назван выходцем из Ура, отправился в землю аморреев, как то указал ему владыка богов, всего только из Харрана, вместе с тем осевшим позднее в Содоме Лотом, которого родовое предание мечтательно объявило сыном брата урского странника на том основании, что Лот был «сыном Харрана». Разумеется, содомлянин Лот был сыном Харрана, коль скоро он, как и урский предок, там родился. Но если Харран, город Дороги, превращали в брата, а прозелита Лота соответственно в племянника урского предка, то это была, конечно, чистейшая игра мечтательного воображения, невозможная при дневном свете, но способная объяснить, почему юному Иосифу так легко давались эти замены.
Он делал их с такой же спокойной совестью, с какой, например, синеарские звездочеты и жрецы, соблюдавшие в своих гаданьях правило равнозначности светил, заменяли одно небесное тело другим, например, Солнце, когда оно заходило, планетой Нинурту, влияющей на государственные и военные дела, или планету Мардук созвездием Скорпиона, называя в таких случаях это созвездие просто «Мардуком», а Нинурту «Солнцем», он делал это ради практического удобства, ибо его желание установить начало событий, к которым он себя приобщал, встречало ту же помеху, с какой всегда сталкивается такое стремление: помеха состоит в том, что у каждого есть отец, что ни одна вещь на свете не появилась сама собой из ничего, а любая от чего-то произошла и обращена назад, к своим далеким первопричинам, к пучинам и глубинам колодца прошлого. Иосиф, конечно, знал, что и у отца урского странника, у истинного, стало быть, выходца из Уру, тоже наверняка был отец, с которого, значит, в сущности и начиналась его, странника, личная история, а у того отца – свой отец, и так далее, хотя бы вплоть до Иавала, сына Ады, до праотца живущих в шатрах и разводящих скот.
Но ведь уход из Синеара был и для Иосифа только условным и частным началом, и благодаря песням и учению он прекрасно представлял себе, какие общие события этому началу предшествовали и через какое множество историй восходили они к Адапе или Адаме, первому человеку, который, согласно одной лживой вавилонской поэме, – куски ее Иосиф знал даже наизусть, – был сыном Эи, бога мудрости и водных глубин, и служил богам пекарем и виночерпием, но о котором у Иосифа имелись более священные и более точные сведения; к саду на Востоке, где стояли два дерева – древо жизни и нечистое древо смерти; к самому началу, когда мир, небо и землю сотворило из тоху и боху Слово, что носилось над водою и было богом. Но разве и это не было только условным и частным началом вещей? Ведь уже тогда восхищенно и удивленно взирали на творца разные существа: сыны бога, звездные ангелы, о которых Иосиф знал много любопытных и даже веселых историй, и гнусные демоны. Они остались, значит, еще от той предыдущей вечности, что, одряхлев, превратилась в неотесанное тоху и боху, – но была ли она началом начал?
Тут у юного Иосифа кружилась уже голова, в точности как у нас, когда мы наклоняемся над колодцем, и, несмотря на маленькие неподобающие нам неточности, которые позволяла себе его красивая и хорошенькая головка, мы чувствуем, как он близок нам и современен перед лицом той бездонной преисподней прошлого, куда и он, далекий, уже заглядывал. Он был, нам кажется, таким же человеком, как мы, и, несмотря на раннее свое время, отстоял от начал человечества (не говоря уж о началах вещей вообще) математически так же далеко, как мы, потому что начала эти на поверку уходят в темную пасть колодца, и в своих изысканиях мы должны либо отправляться от каких-то условных и мнимых начал, путая их с началом действительным в точности так же, как путал Иосиф урского странника, с одной стороны, с отцом этого предка, а с другой – со своим собственным прадедом, либо брести назад от одного мыса к другому в бесконечную даль.
3Мы упомянули, к примеру, что Иосиф знал наизусть красивые вавилонские стихи из одной большой, запечатленной письмом поэмы, исполненной лживой мудрости. Он слыхал их от путников, которые заворачивали в Хеврон и с которыми он со свойственной ему общительностью обычно беседовал, и от своего домашнего учителя, вольноотпущенника отца, старого Елиезера – не следует путать его (как порой случалось путать Иосифу и даже самому этому старику, к его удовольствию), не следует путать его с Елиезером, старшим рабом урского странника, тем, что сватал некогда у колодца Исааку дочь Вафуила. Так вот, мы знаем эти стихи и сказания; у нас есть таблицы с их текстами, найденные в Ниниве, во дворце Ашшурбанапала, царя вселенной, сына Ассархаддона, сына Синахериба, и иные из этих глиняных, серо-желтых скрижалей, покрытых затейливой клинописью, представляют собой первоисточник предания о великом потопе, которым господь истребил первых человеков за их растленность, потопе, игравшем и в личной истории Иосифа такую важную роль. Но если говорить правду, то слово «первоисточник», особенно его первая, наиболее яркая часть, выбрана не совсем точно; ведь поврежденные эти таблички являются копиями, которые всего за каких-нибудь шестьсот лет до нашей эры Ашшурбанапал – владыка, весьма благорасположенный к письменности и к закреплению мыслей, «премудрый», как выражались вавилоняне, и усердный собиратель богатств ума, – велел изготовить ученым рабам, а подлинник был на добрую тысячу лет старше и восходил, следовательно, ко временам законодателя и лунного странника, отчего прочесть и понять его писцам Ашшурбанапала было примерно так же легко или так же трудно, как нам, ныне здравствующим, рукопись из времен Карла Великого. Неуклюжие, давным-давно устаревшие письмена этой иератической грамоты было, конечно, трудно разобрать уже и тогда, и за то, что смысл их передан безупречно, поручиться нельзя.
Однако и этот подлинник тоже, собственно, не был подлинником, настоящим подлинником, если присмотреться получше. Он и сам уже был списком с документа бог весть какой давности, который, хоть мы и не знаем толком времени его изготовления, можно было бы наконец признать истинным подлинником, если бы и тот, в свою очередь, не был снабжен примечаниями и приписками, сделанными рукой писца для лучшего понимания опять-таки какого-то сверхдревнего текста, но способствовавшими, вероятно, напротив, обновительному искажению его мудрости, – мы могли бы продолжить эту цепь, не смей мы надеяться, что нашим слушателям уже и так ясно, что мы имеем в виду, когда говорим о далеких мысах и о жерле колодца.
У жителей земли Египетской это понятие обозначалось особым выражением, которое Иосиф знал и при случае употреблял. Хотя дом Иакова был закрыт для хамитов из-за их надругавшегося над своим отцом и сплошь почерневшего предка и еще потому, что к обычаям Мицраима Иаков относился с религиозным неодобрением, мальчик по своему любопытству все-таки часто общался с египтянами в городах, в Кириаф-Арбе, в Сихеме, и подцепил кое-какие словечки их языка, в котором позднее ему довелось так блестяще усовершенствоваться. Так вот, о делах неопределенной, но очень большой, – короче, незапамятной – давности египтяне говорили: «Это случилось в дни Сета» – так звали одного из их богов, коварного брата их Мардуга или Таммуза, которого они именовали Усири, страдальцем; прозвище это объяснялось тем, что Сет, во-первых, заманил брата в гробовой ларь и бросил в реку, а потом, как лютый зверь, растерзал его на куски и убил окончательно, после чего Усир, жертва Сета, стал повелителем мертвых и царем вечности в преисподней… «В дни Сета» – людям Мицраима часто доводилось пользоваться этим речением, ибо все их дела уходили своим началом в непроглядный мрак той поры.
На краю Ливийской пустыни, близ Мемфиса, лежал, вытянув перед собой огромные кошачьи лапы, высеченный из скалы великан, пятидесятитрехметровой высоты полулев-полудева, с женскими грудями, с козлиной бородой и вздыбившимся у головной повязки удавом, и нос этого каменного исполина был притуплен временем. Он лежал там всегда, и всегда его нос был источен временем, и никто не помнил поры, когда нос его еще не был так туп или когда этого сфинкса вообще не существовало. Тутмос Четвертый, золотой коршун и могучий бык, любимец богини Правды, царь Верхнего и Нижнего Египта, из той же восемнадцатой династии, что и Амун-доволен, велел во исполнение некоего наказа, полученного им во сне перед своим восшествием на престол, вырыть это исполинское изваяние из песка пустыни, которым его уже почти совсем занесло. Но уже за полторы тысячи лет до того царь Хуфу, из четвертой династии, выстроивший себе поблизости гробницу в виде огромной пирамиды и приносивший сфинксу жертвы, застал его весьма обветшалым, а о временах, когда его вообще не было или когда хотя бы нос его был цел, и вовсе никто не помнил.
Не сам ли Сет высек из камня этого чудо-зверя, которого позднее считали изображением солнечного бога и называли «Гор на светозарной горе»? Это вполне возможно, ибо Сет, как и жертва Усири, был, вероятно, не всегда богом: когда-то он, по-видимому, был человеком, и притом царем земли Египетской. В часто повторявшемся уверении, что первую египетскую династию основал примерно за шесть тысяч лет до нашей эры некто Менес или Гор-Мени, а дотоле была «преддинастическая эпоха»; что этот Мени впервые объединил две страны, нижнюю и верхнюю, папирус и лилию, красный и белый венцы, и был первым царем Египта, история которого и начинается с его правления, – во всем этом утверждении нет, вероятно, ни одного слова правды, и, если вглядеться пристальнее, то первоправитель Мени – это просто-напросто завеса времени. Геродоту египетские жрецы сообщили, что письменная история их страны началась за 11 340 лет до его эры, а это составляет для нас примерно четырнадцать тысяч лет и делает царя Мени совсем не такой первобытной фигурой. История Египта распадается на периоды разлада и упадка и на периоды могущества и великолепия, на эпохи безвластья и многовластья и на эпохи величественного единоначалия, и становится все яснее, что уклады эти слишком часто чередовались, чтобы царь Мени мог быть и в самом деле первым единодержцем. Разобщенности, которую он исцелил, предшествовало более раннее единство, а единству более ранняя разобщенность; сколько раз нужно в данном случае употребить слова «более ранний», «опять-таки» и «предшествовать» – сказать нельзя; сказать можно только, что впервые единство царило при божественных династиях, отпрысками которых, по всей вероятности, и были Сет и Усири, и что история об убийстве и растерзанье Усира, жертвы, мифически намекала на борьбу за престол, при которой дело не обходилось без коварства и преступлений. Это до одухотворенности, до призрачности далекое прошлое, ставшее уже мифом и богословием, сделалось предметом почтительного поклонения, приняв образ определенных животных, нескольких соколов и шакалов, которых хранили в древних столицах стран, Буто и Энхабе, животных, в которых будто бы таинственным образом продолжали жить души тех первобытных существ.