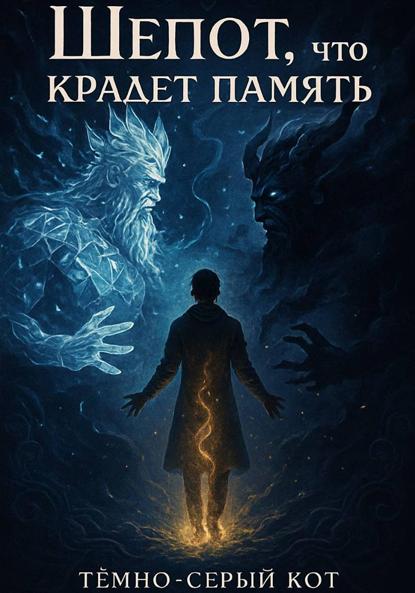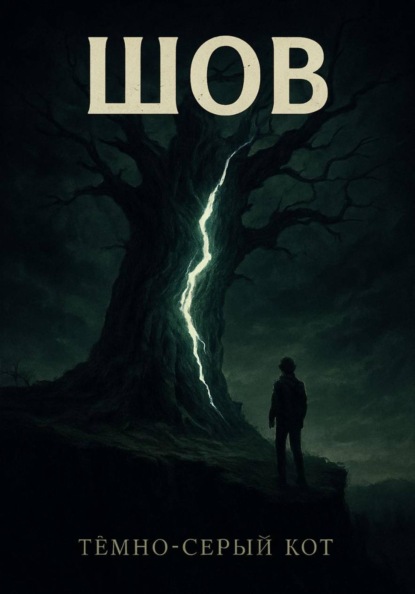
Полная версия:
Тёмно-Серый Кот Шов
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Антон ничего не понимал. Холодный огонь под ребрами разгорался, реагируя на клубящийся, ядовитый страх Тита. Он видел, как ложь старейшины рвется, как из-под нее выползают черные, корявые «словесные шрамы» – застарелые, гноящиеся раны от невысказанной правды, от запретных мыслей. И среди этого хаоса он уловил обрывок, клочок чего-то настоящего: образ того самого Дуба, но не на обрыве, а здесь, в центре деревни. И тень человека, сливающегося с ним воедино.
– Я не понимаю, – честно сказал Антон, и его собственный голос, чистый от привычной фальши, прозвучал странно громко в этой атмосфере всеобщего обмана.
Тит замер, словно прислушиваясь к отзвуку этих слов. Его взгляд смягчился, но не от сочувствия, а от нового расчета.
– Ладно, – пробормотал он, отворачиваясь. – Ладно. Пойдем. Покажу тебе, где ты очутился. Может, глядя на все, ты вспомнишь, кто ты такой на самом деле. Или… кем ты должен быть.
Он резко двинулся в сторону, к узкому проходу между избами. Антон, не видя другого выхода, поднялся и пошел за ним, чувствуя, как его ноги подкашиваются от слабости и шока.
Деревня просыпалась. Из изб выходили люди – мужчины в таких же простых одеждах, женщины в темных сарафанах, дети, одетые во взрослое миниатюре. Все они смотрели на Антона. Но не с любопытством горожан, а с тем же каменным, отстраненным выражением, что и у Тита. Их взгляды были тяжелыми, оценивающими. И от каждого исходил тот же густой туман бытовой лжи, сотканной из тысяч мелких неправд: о сытости, о здоровье, о безопасности, о будущем. Они были не людьми, а манекенами, закутанными в серую, липкую вату.
Антон шел, и ему казалось, что он задыхается. Его дар, обострившийся до боли, показывал ему не просто ложь. Он показывал ему ткань. Всю деревню как единый организм, сотканный из лживых нитей. Эти нити тянулись от каждого человека к каждому, сплетаясь в грубый, но прочный холст, который натянут над… над чем? Антон поднял глаза и увидел.
Они вышли на небольшую площадь в центре поселения. И там Он был.
Тот самый Дуб. Но не древний исполин на обрыве, а… живой, мощный, полный скрытой силы. Его ветви раскинулись над площадью, создавая естественный навес. Кора была темной, но не мертвой, а будто дышащей. И вокруг него, на расстоянии нескольких шагов, земля была чистой – ни травинки, ни соринки. Словно сама почва боялась прорасти слишком близко.
Но это было не самое страшное. Антон видел Шов.
Он был невидим для обычного глаза. Но для дара Антона он предстал как ослепительно белая, горящая трещина в самом воздухе, прямо за стволом Дуба. От нее расходились лучи – те самые нити лжи, что опутывали деревню. Дуб был якорем. Он впивался корнями в эту трещину, стягивая ее края, не давая ей разойтись. А нити лжи, исходившие от людей, были подпорками, растяжками, которые помогали удерживать напряжение. Весь этот мир – деревня, люди, их тихая, серая жизнь – существовал лишь потому, что кто-то когда-то создал эту заплату на теле реальности. И кто-то должен был ее поддерживать.
– Вот он, – глухо произнес Тит, стоя в нескольких шагах от Дуба, не смея подойти ближе. – Шов. Что держит наш мир от Падения. Что держит нас от… Небытия.
Он обернулся к Антону. И в его каменном лице наконец появилась настоящая, неприкрытая эмоция. Не страх. Ненависть.
– Мы все здесь – стражники. Наш долг – беречь покой. Нашу тишину. Наш порядок. И тот, кто нарушает его… – Тит сделал шаг вперед. – Тот, кто приходит с дикими речами про «Архангельск» и смотрит на мир такими… видящими глазами… тот опаснее, чем сама Пустота. Потому что Пустота ждет. А такой, как ты, может начать.
Антон стоял, не в силах пошевелиться. Холодный огонь внутри бушевал, рвался наружу, навстречу ослепительному белому свету Шва. Он чувствовал странное, мучительное родство и с Дубом, и с этой трещиной, и с этим местом. Он помнил это. Не памятью ума, а памятью крови, памяти того самого дара, что горел под его ребрами.
– Кто я? – снова спросил он, но теперь вопрос был обращен не к Титу, а к самому Дубу, к мерцающему Шву.
И ветер, тот самый немой ветер с Двины, которого здесь, в этом времени, быть не могло, вдруг зашевелил сухие листья у подножия великана. Он не принес звука. Он принес образ. Вспышку памяти, не своей.
Юноша у Дуба. Лица старейшин. Добровольный отказ. Жертва во имя тишины. И последние слова, ставшие клятвой: «Зовите меня Минин».
Антон ахнул, схватившись за голову. Картина была настолько ясной, настолько реальной, что он почувствовал шершавую кору под своей ладонью, холод пламени в груди, горький вкус выбора.
Тит наблюдал за ним, и его ненависть сменилась ледяным, всепонимающим ужасом.
– Так вот оно что, – прошептал он, и его голос был полон отвращения и какого-то почтительного страха. – Ты… ты из них. Из тех, кто создавал. Но ты пришел не укрепить, нет. Пришел разрушить. Потому что ты – Минин. А Минин – это тот, кто берет на себя бремя. Но какое бремя ты несешь, мальчик? Бремя правды? Она нам не нужна! Нам нужна тишина!
Он кричал теперь, и его крик собирал людей. Они выходили на площадь, окружали их плотным, безмолвным кольцом. Их туманные лица были обращены к Антону, и в их взглядах читалась не ненависть, а животный, панический страх. Страх перед тем, кто может нарушить хрупкое равновесие их лживого рая.
– Возьмите его, – скомандовал Тит, и его голос снова стал твердым, старейшинским. – Отведите в пустую избу у леса. Не трогайте. Но и не выпускайте. Завтра… завтра мы решим, что с ним делать. Решим на Совете.
К Антону подошли два крепких мужчины. Их руки, тяжелые и мозолистые, схватили его за плечи. Он не сопротивлялся. Его ум был переполнен открывшейся бездной. Он смотрел на Дуб, на белое сияние Шва, на людей в их коконах из лжи.
Он – Антон Минин. Он – наследник. Но не наследник спасителя Отечества. Наследник того, кто добровольно заточил себя в тюрьму тишины, чтобы мир не рухнул в Пустоту. И теперь он здесь, в этом прошлом, которое держится на лжи. И его дар, его проклятая способность видеть правду, была тем самым ключом, который мог либо запереть эту тюрьму навеки… либо взорвать ее изнутри.
Его повели прочь с площади. На прощание он увидел, как из-за спины одного из мужчин выглянула рыжеволосая девчонка. Та самая, из его сна-воспоминания. Ее глаза, круглые от ужаса и любопытства, встретились с его взглядом. И в них, сквозь толстый слой детского, наивного обмана, он на мгновение увидел искру. Искру чего-то живого, еще не задавленного, еще не завернутого в серую вату.
Потом его втолкнули в темную, холодную избу, дверь захлопнулась, и щелкнул тяжелый деревянный засов.
Тишина снова обволокла его, густая и тяжелая. Но теперь это была тишина плена. Тишина перед выбором, которого он не просил, но который был вшит в саму ткань его имени.
Снаружи, сквозь щели в бревнах, доносился немой вой ветра. И в нем, как тогда, на обрыве, чудилось одно-единственное слово, ставшее его судьбой:
…Жди…
Шепот растворился в темноте, оставив после себя лишь холод и тягучее, все заполняющее одиночество. Антон лежал неподвижно, щекой прижавшись к земляному полу. Холод проникал сквозь тонкую ткань куртки, сливался с внутренней ледяной пустотой. Он не плакал. Слезы казались здесь чем-то бесконечно далеким, детским и бесполезным. Здесь царили другие законы – закон выживания, закон молчания, закон страха.
Он заставил себя сесть, опираясь спиной о бревенчатую стену. Глаза постепенно привыкали к мраку. Избушка была крошечной, всего несколько шагов в длину и ширину. Кроме него, в ней не было ничего: ни нар, ни лавки, ни печки. Только голые, почерневшие от копоти и времени бревна, земляной пол да маленькое оконце, затянутое мутной, полупрозрачной пленкой. Воздух пах сыростью, прелой соломой и мышами.
Его дар, этот вечный, неугомонный внутренний глаз, медленно сканировал пространство. Здесь не было густого тумана лжи, как на площади. Было пусто. Безжизненно. Это место было выключено из общего механизма деревни, заброшено, как использованный инструмент. И в этой пустоте его собственные мысли звучали оглушительно громко.
Минин. Наследник. Шов. Жертва.
Слова кружились в голове, не складываясь в понятную картину. Он вспоминал учебник истории, насмешки одноклассников. Кузьма Минин – спаситель. А он, Антон, что спас? Ничего. Он только все ломал. Своей правдой, своим неумением молчать. И теперь оказался здесь, в этом кошмаре, где его фамилия значила что-то совершенно иное, страшное и древнее.
Он вспомнил глаза Тита. Ненависть, смешанную со страхом. «Ты пришел разрушить». Но он не хотел ничего разрушать! Он просто хотел, чтобы все было честно. Чтобы мама не лгала, что у нее все хорошо. Чтобы учителя не притворялись. Чтобы Влад… Он сжал кулаки. Нет. Это был другой мир. Здесь ложь была не слабостью, а оружием. Защитой от чего-то похуже.
«Что похуже?» – подумал Антон, и перед его внутренним взором снова вспыхнул образ Шва – ослепительно-белая, рваная трещина в самой реальности. За ней – не тьма, а нечто обратное свету. Полное отсутствие. Небытие. Пустота, которая ждет, чтобы ее наполнили смыслом, словом, жизнью. Или которая поглотит все, не оставив и воспоминаний.
Его отец, историк-архивист, пропавший три года назад при загадочных обстоятельствах во время полевой работы у старых монастырей под Архангельском, как-то сказал: «Самая страшная ложь, Антон, – не та, что искажает факты. А та, что создает целый мир, альтернативный реальности. И люди начинают верить в него сильнее, чем в то, что видят своими глазами. Это и есть настоящее колдовство».
Отец… Куда он пропал? Связано ли это с даром Антона? С этой деревней? С Миниными? Головная боль накатила с новой силой. Воспоминания о прошлом, о семье, стали мутными, отдаленными, как будто их отделяла от него не просто временная, а какая-то иная, более толстая пелена.
Внезапно снаружи, совсем близко, скрипнула половица. Антон замер, насторожившись. Не шаги стражей – те удалялись тяжелой, мерной поступью. Это был легкий, осторожный шорох. Потом – едва слышный скребущий звук у основания двери.
Кто-то просовывал что-то под порог.
Сердце Антона бешено заколотилось. Он подполз к двери, затаив дыхание. В щель между нижним бревном и грубо обтесанной доской порога медленно просунулся плоский, темный предмет. Потом тихий шорох удаляющихся босых ног по мерзлой земле – и снова тишина.
Антон дрожащими пальцами подцепил предмет. Это была деревянная дощечка, чуть больше ладони, грубо обструганная. На ней лежал небольшой, темный комок. Он поднес его к полоске слабого света из оконца. Хлеб. Черный, плотный, пахнущий не магазинной дрожжевой сладостью, а ржаной кислинкой и золой. А на дощечке что-то было нацарапано. Не буквы, а знаки, похожие на детские каракули или древние руны.
Он прищурился, пытаясь разобрать. Его дар, обычно реагирующий на живую речь, тут молчал. Это были просто метки. Но смысл их, странным образом, был понятен. Как если бы кто-то вложил в них не слово, а чистый образ, эмоцию.
Первая метка: круг с точкой в центре – глаз, смотрю.
Вторая: волнистая линия – река, опасность.
Третья: дерево с корнями, уходящими в зигзаг – Дуб и Шов.
И четвертая, самая сложная: фигурка человека, стоящего перед деревом, и от него к дереву тянулась стрела. А вокруг фигурки – что-то вроде сияния или… языков пламени.
Послание было кристально ясным: «Я вижу. Ты пришел через реку (опасность). Ты у Дуба (Шва). Ты несешь в себе огонь».
Антон перевернул дощечку. На обратной стороне был нацарапан один-единственный знак: незаконченный круг, разомкнутый сверху, словно чаша или… колыбель. И внутри – маленькая точка. Знак, который он интуитивно прочитал как надежда или новое начало.
Рыжеволосая девчонка. Это была она. Та самая искра в глазах. Она не просто смотрела с любопытством. Она видела. Может, не так, как он, но видела что-то. И она пыталась до него достучаться. Рискуя. В этом мире, пропитанном страхом и запретами, это был отчаянный, почти немыслимый поступок.
Он сжал хлеб в руке. Он не был голоден, его тошнило от пережитого, но этот грубый комок был чем-то большим, чем еда. Это была первая ниточка, протянутая к нему в этом чужом и враждебном мире. Признание. Молчаливый вопрос: «Кто ты?»
Он отломил маленький кусочек, положил в рот. Хлеб был жестким, кислым, его нужно было долго размачивать слюной. Но он был настоящим. Честным. В нем не было лжи.
Наступила ночь. Холод усиливался, пробираясь под одежду, заставляя зубы стучать. Антон съежился в углу, подобрав под себя ноги, пытаясь сохранить хоть какое-то тепло. Он думал о Дубе. О том юноше из своего видения. Тот выбрал жертву. Отказался от дара, чтобы укрепить Шов. Он стал частью системы, частью лжи во имя спасения.
А что выберет он, Антон? Сможет ли он, как тот первый Минин, добровольно погасить свой внутренний огонь, ослепнуть, обречь себя на вечное молчание в обмен на… на что? На сохранение этого серого, унылого мира, построенного на страхе? Мира, где даже дети учатся лгать, чтобы выжить?
–Нет, – прошептал он в темноту. Но в этом «нет» не было уверенности. Была только боль и усталость пятнадцатилетнего мальчика, который оказался в центре бури, где решались судьбы реальностей.
Ему снились обрывки снов. Городские огни, растворяющиеся в немом ветре. Лицо матери, затянутое пеленой серого тумана. Ухмылка Влада, превращающаяся в оскал волка. И Дуб. Всегда Дуб. То древний на обрыве, то могучий на площади. И из его коры, как слезы, сочился ослепительно-белый свет, а в шелесте листьев звучал одинокий, бесконечно печальный голос: «Меньший… возьми бремя…»
Он проснулся от резкого звука – удара дерева о дерево. Снаружи, сквозь мутное оконце, пробивался тусклый, пепельный свет. Утро.
Шаги у двери. Грубые голоса. Скребущий звук отодвигаемого засова.
Дверь распахнулась. На пороге, заливаясь холодным серым светом, стояли двое тех же мужчин и Тит. Старейшина выглядел еще более суровым и непреклонным, чем вчера. Его лицо было отполировано решимостью, как сталь.
– Вставай, – бросил он. – Вечевой сход ждет. Сегодня решается твоя судьба. И судьба всей деревни. Иди.
Антон медленно поднялся, отряхнул занемевшие, застывшие ноги. Он спрятал деревянную дощечку во внутренний карман куртки, почувствовав ее твердый край у груди – как талисман, как напоминание. Он встретил взгляд Тита.
– А если я не хочу идти? – тихо спросил он. Голос не дрогнул.
Тит усмехнулся коротко, беззвучно. Лживый туман вокруг него сгустился, стал почти непроницаемым щитом.
– Тогда мы понесем тебя. Или выволочем за ноги. Выбора у тебя нет, Минин. Ты вошел в нашу ткань. Теперь ты либо станешь ее частью, либо… ты станешь дыркой, которую нужно будет зашить. Любой ценой. Иди.
Антон сделал шаг вперед, на холодный утренний воздух. Лес за избушкой стоял тихий, застывший в инее. Дорога вела обратно, к деревне, к площади, к Дубу. К месту, где ему предстояло сделать выбор, которого он так боялся.
И пока он шел под конвоем, чувствуя на себе тяжелые взгляды стражей, он вдруг осознал одну простую вещь. Он уже сделал выбор. Еще там, на обрыве, когда решил пойти на зов. Еще в школе, когда не смог промолчать. Еще в детстве, когда впервые спросил: «Мама, почему ты плачешь, если у тебя все хорошо?»
Он выбрал правду. Даже если она вела его в пропасть. И теперь ему предстояло понять, какую цену за эту правду придется заплатить. Цену, которую когда-то заплатил тот, первый, взявший имя Минин.
Он шел, и под ребрами холодный огонь горел ровно и упрямо, как путеводная звезда в сером, беззвучном мире. Звезда, ведущая не к спасению, а к долгу. Тяжелому, неблагодарному, но его долгу.
Глава III. Вече
Дорога от лесной избушки до деревенской площади оказалась короче, чем Антон помнил. Возможно, накануне его вели окольным путем, чтобы запутать, или же само пространство здесь подчинялось иным законам – сжималось и растягивалось в зависимости от намерений тех, кто им управлял. Серое предрассветное небо, без единой звезды, нависало низко, придавливая кроны сосен и крыши изб. Воздух был неподвижным и густым, словно вар. И в этой густоте, как всегда, плавала та самая знакомая, удушающая взвесь – запах коллективного страха, замаскированного под бытовую рутину.
Его конвоиры, два коренастых мужчины с лицами, вырезанными из того же дерева, что и их избы, шли молча. Их шаги были тяжелыми, увертливыми, привыкшими к этой земле. Антон чувствовал исходившую от них ложь, простую и прямую, как удар топора: «Мы делаем свое дело. Так надо. Так было всегда». В ней не было личной ненависти, только холодное исполнение долга. Это было почти хуже. Один из стражников, мужчина с обветренным лицом и спутанной бородой, украдкой бросил на него взгляд. Не со злобой, а с тупым, животным любопытством, словно вел на заклание странного зверя. От него пахло потом, дегтем и чем-то кислым – страхом, который и он сам не осмеливался признать.
Они миновали последний ряд изб. Антон заметил детали, которые вчера ускользнули от него: примитивные деревянные игрушки, брошенные у порога; горшок с увядшим, почерневшим от холода стеблем чего-то, что, возможно, было цветком; тщательно заделанную мхом широкую трещину в стене одной из хат. Признаки жизни, тщательно приглушенные, спрятанные, как будто сама попытка украсить быт считалась здесь грехом легкомыслия перед лицом вечной угрозы.
Они вышли на площадь. Она уже не была пустой. Вокруг Дуба, на почтительном расстоянии, стояли жители деревни. Все до одного. Мужчины и старики – впереди, женщины – за ними, дети – сзади или на руках у матерей. Они образовали почти идеальный круг, разомкнутый только со стороны тропы, по которой вели Антона. Их лица в предрассветных сумерках казались высеченными из того же серого камня, что и мостовая древнего города. Ни любопытства, ни ожидания, ни даже страха – только пустое, вымороженное ожидание приговора. Эта всеобщая отрешенность была страшнее любой ярости. Она говорила о привычке, въевшейся в поколениях, о том, что подобные «веча» – часть порядка вещей, как смена сезонов или утренняя молитва.
В центре круга, у самых корней Дуба, стоял Тит. Рядом с ним – несколько человек постарше, с такими же непроницаемыми лицами. Совет старейшин. Один, совсем дряхлый, почти слепой, сидел на низкой деревянной колоде, его руки, покрытые коричневыми пятнами, судорожно сжимали посох. Другой, с лицом, похожим на высохшую грушу, нервно перебирал четки из деревянных шариков. Антона подвели к краю круга и остановили, не выпуская из цепких хваток. Прямо перед ним, в двух шагах, стояла женщина с младенцем, завернутым в лоскутное одеяло. Младенец заплакал, тоненько и жалобно. Женщина, не меняя каменного выражения, сунула ему в рот грудь, и плач прекратился, сменившись тихим посапыванием. Но даже в этом жесте не было материнской нежности – лишь функциональное устранение помехи.
Тишина была абсолютной. Даже немой ветер притих, затаившись в ветвях исполина. Казалось, сама природа замерла, ожидая решения. Антон поднял глаза на Дуб. Днем он казался еще более грозным и живым. Его кора, темная и рельефная, напоминала окаменевшую кожу какого-то допотопного существа. Свет, пробивавшийся сквозь редкие облака, падал на листья, но не делал их зелеными – они казались темно-бронзовыми, почти черными, поглощающими свет. А Шов… Шов пылал. Невидимый для остальных, для дара Антона он был ослепительной, мучительной белизной, трепетной и пульсирующей, как открытый нерв мироздания. От него, как лучи от чудовищного светила, расходились те самые серые, липкие нити, опутывающие каждого жителя, каждую избу, каждую пядь этой земли. Деревня была не просто поселением у Шва. Она была его частью. Живым, дышащим бандажом на ране. Антон вдруг осознал, что чувствует его… ритм. Очень медленный, тяжелый, как удары огромного сердца. И этот ритм отчасти совпадал с пульсацией его собственного холодного огня. Это открытие заставило его вздрогнуть.
Тит сделал шаг вперед. Его фигура, высокая и сухая, казалась сейчас воплощением самой этой земли – суровой, беспощадной, не знающей сомнений. Он поднял руки, и широкие рукава его рубахи ниспали, обнажив жилистые, покрытые старыми шрамами предплечья.
– Люди деревни Устья! – его голос, обычно хриплый, прозвучал на удивление четко и громко, разносясь по площади и ударяясь о бревенчатые стены. Звук был плоским, лишенным эха, будто поглощаемым той же ватной тишиной. – Собрал я вас на Вече не для праздного слова. Стоим мы у края. Не того, что рекою омыт, а другого, пострашнее. Стоим у Шва, что держит мир наш от Падения.
Он обвел собравшихся тяжелым взглядом. Никто не пошевелился. Даже дети затихли, будто понимая сакральную важность момента.
– Испокон веков живем мы здесь, сторожа, – продолжал Тит, и его речь приобрела размеренность древнего сказителя. – Живем по Завету. По правде предков. Правда же наша проста: тишина – спасение. Порядок – крепость. Слово лишнее – щель в стене. Щель ведет к трещине, трещина – к разрыву. А разрыв… – Тит сделал драматическую паузу, и Антон увидел, как от его слов, густых и тяжелых, как смола, поползли новые, усиленные страхом нити, вплетаясь в общий узор, уплотняя его. – Разрыв ведет в Пустоту. Туда, где нет ни слов, ни памяти, ни лиц, ни имен. Туда, откуда не возвращаются.
В толпе кто-то судорожно сглотнул. Женщина прижала к себе ребенка еще крепче. Ложь, исходившая от Тита, была особая. Это была не бытовая неправда. Это был миф. Фундаментальный, жизнеутверждающий обман, на котором держалась вся их реальность. И он работал. Антон видел, как слушатели буквально впитывают его, как их собственные туманные коконы уплотняются, становятся прочнее. Они верили. Верили в необходимость этого кошмара, в его святость. Вера эта была похожа на наркотик – она притупляла боль от собственной несвободы, давая взамен иллюзию смысла и безопасности.
– И вот, – продолжил Тит, и его палец, костлявый и прямой, как указка, направился на Антона, – является к нам странник. Прибило его водами Двины-кормилицы, выбросило у нашего порога, словно щепку. Не местный он. Одежда на нем – диковинная, из тканей неведомых, речи – непонятные. Говорит, что из града, коего еще и в помине нет, что строиться будет лишь через лета. Глазами смотрит такими, будто не по одежде, а по душе меряет. Будто видит не лик, а изнанку.
Взоры сотни глаз впились в Антона. Давление их внимания было физическим, оно давило на плечи, сжимало виски, пыталось вогнать его в землю. Его дар взвыл от перенапряжения. Он видел не просто лица – он видел сгустки эмоций, прикрытые масками равнодушия. Страх перед неизвестным, похожий на тот, что испытывают животные перед лесным пожаром. Раздражение от нарушенного порядка, как у механизма, в который попал песок. Смутную, глубоко запрятанную надежду у некоторых стариков, чьи глаза на миг теряли стеклянный блеск… и живой, острый, почти жадный интерес там, в третьем ряду, где мелькнул рыжий локон и зеленые глаза широко раскрылись.
– Спрашиваю я его, – голос Тита стал тише, но от этого лишь весомее, будто каждое слово было высечено из льда, – как звать-то тебя, пришлый человек? Откуда родом, какой крови? И слышу в ответ… – Тит замолчал, и в его паузе была поставлена вся драматургия власти. Он наслаждался моментом. – Слышу: «Антон. Антон Минин».
Тишина на площади стала иного качества. Она не просто замерла – она остекленела. Словно имя ударило по невидимому колоколу, и звук застыл в воздухе, не в силах рассеяться. Антон увидел, как все те серые нити, связывающие людей с Дубом и друг с другом, напряглись одновременно, затрепетали, как струны. На лицах старейшин рядом с Титом промелькнуло нечто большее, чем страх. Благоговейный ужас. Точно они услышали имя древнего бога, пробудившегося от многовекового сна, или окончательное проклятие, падающее на их головы.
– Минин… – прошепелявил старик Игнат, тот, что сидел на колоде. Его голос был сухим шелестом опавших листьев. – Да не может быть… Предание… оно ясно… Минин ушел в Шов. Стал его сердцем. Он не может вернуться. Не может!
– Может! – резко, почти яростно оборвал его Тит. – Может, отец Игнат. И оттого страшнее. Мы храним это имя. Храним в памяти, как храним Завет, как храним умение разжигать огонь и плести сети. Минин – тот, кто первым принял бремя. Тот, чья воля и чья жертва соткали основу Шва, дали форму нашей защите. Тот, кто добровольно ушел в немоту, отрекся от своего дара, чтобы мы жили. Чтобы был порядок. Чтобы была тишина.
Он повернулся к Антону, и теперь в его глазах горел уже не расчет, а нечто вроде религиозного фанатизма, смешанного с животной ненавистью к тому, кто посмел покуситься на саму основу его мира.
– И вот является отрок. Называет себя именем Праотца. Глаза его, говорят, видят то, что нам, простым, не дано видеть. Видят саму ткань слов. И говорит он… – Тит снова сделал паузу, давая набраться страху, сгуститься ужасу. – Говорит он о вещах, которых не может знать живой человек. О граде будущем, что встанет на костях наших правнуков. О времени ином, что течет иначе. Он – трещина в днях наших. Скажи же, пришлый, – он вплотную подошел к Антону, и от него пахнуло дымом, старым потом, лечебными травами и той самой древней, ледяной пустотой, что сквозила в Шве, – скажи всем, собравшимся здесь! Зачем ты пришел? Ты – вестник обновления? Или… искуситель, пришедший расторгнуть Завет?