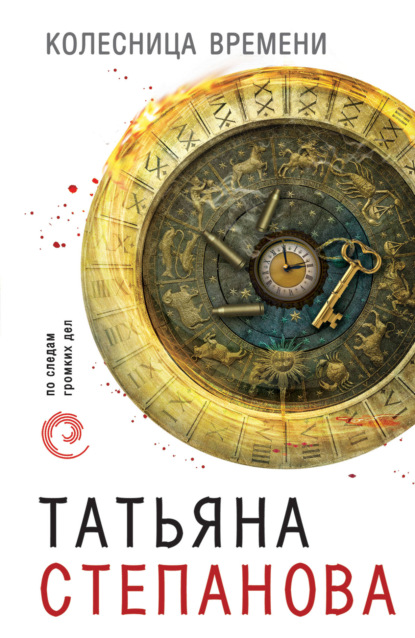- Рейтинг Литрес:4.5
- Рейтинг Livelib:4.2
Полная версия:
Татьяна Юрьевна Степанова Демоны без ангелов
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Татьяна Степанова
Демоны без ангелов
Глава 1
Триумф любви
25 апреля 1986 года. Припять
Они легли рано этой ночью, но так и не сомкнули глаз почти до утра. В маленькой уютной квартирке, где еще пахло новосельем и не водилось почти никакой мебели, кроме новой тахты, купленной в городском Доме быта.
В эту ночь Тамара постелила на тахту лучшее белье – рижский постельный комплект в голубой цветочек. Они с Анатолием привезли этот комплект из Дзинтари, когда отдыхали там еще не мужем и женой, а женихом и невестой, снимали комнату на взморье. Но они уже тогда знали, что непременно поженятся, как только Анатолию, как молодому специалисту, дадут в Припяти квартиру. Они получили ордер в конце марта и свадьбу сыграли не откладывая – шумную, веселую, молодую свадьбу в городском кафе, куда все гости украдкой под полой пронесли бутылки шампанского, ибо в кафе по случаю «антиалкогольной кампании» не отпускали и…
И медовый месяц в новой квартире, лишенной мебели, взял старт.
И продолжался…
И длился…
И все никак не заканчивался…
Вот и сейчас…
– Томка… Томочка… Томка моя… малыш…
Он, ее муж, задыхался. И она чувствовала его жар и его силу. Ночи, когда они занимались любовью меньше трех раз, они называли голодными ночами. Где-то она читала про голодные ночи, или это он, Толька, сказал… выдал, когда они отдыхали на смятых простынях, или они вместе это придумали.
– Так тебе хорошо?
– Да, да…
– Тебе хорошо?
– Еще, еще…
Подчиняясь ему, растворяясь, тая в его силе и страсти, его твердости, его ритме, она, его жена, уже не могла отвечать связно, а лишь стонала, вскрикивала все громче. Он приподнялся, отстранился, не выходя, двигаясь в ней бешено и сладко, поднял ее ноги и положил себе на плечи.
Они рано легли в эту ночь, но честное слово – и глаз еще до сих пор не сомкнули, никак не могли перестать, оторваться друг от друга. А вроде оба вернулись с работы вечером усталые. Она со стройкомбината. Он с АЭС. На днях ему предстояла командировка в Киев, в «Киевэнерго». А это означало, что две, а может, три ночи оказались бы такими голодными, одинокими, пустыми.
В свой медовый месяц, когда, по статистике, две трети поженившихся пар грызутся и ссорятся, они не поссорились ни разу, потому что им было некогда. Отдельная квартира, которую они так ждали… Где можно, закрывшись от мира, задернув шторы, вытворять что угодно – смеяться, дурачиться, ходить голыми, не стесняясь, целоваться, падать на колени, опять целоваться, любоваться и трогать… касаться… еще целоваться, пока голова не закружится…
– Руки, руки!
– Ах, какие у нас пальчики…
– Вы наглый и дерзкий…
– Вы такая сладкая…
– Толька, ну нельзя же так все время…
– Пач-ч-чиму?
– Трахаться как кролики…
– А «если это любовь»?
– Любовь до гроба?
Потом они лежали рядом на спине, затем он поцеловал ее в ухо и встал в туалет.
Тамара лежала в темноте. Ей отчего-то казалось, что эту ночь они с Толькой прожили не зря. Будет толк. Когда они кончили вместе, там… ну внутри словно что-то сомкнулось. Тамара ощутила мир и покой. Сложно выразить это словами, но она чувствовала… нет, почти уже была уверена: эту ночь они прожили, пролюбили не зря.
Из ванной – «санузла совмещенного» – донесся хриплый возглас. Там вспыхнул свет, потом Толька вылетел оттуда, давясь смехом, рухнул на тахту рядом с женой.
Начал шепотом объяснять: только зашел туда, меня р-раз что-то по лицу… коснулось… У меня сердце – ек! Мокрое, чудное, словно чья-то рука, свет зажег, а это…
– Пакеты! Это ж наши сумки полиэтиленовые.
Тамара засмеялась. Полиэтиленовые сумки заграничные, на работе Светка Гаврющенко из Польши привезла и по рублю продавала потихоньку. Фирменные сумки – какие хочешь, с «Мальборо» – картинкой, с «Пинк Флойд», с Микки-Маусом. Такие сумки берегли, потому что мода и фирма. Никто их не выбрасывал до самого последнего, пока картинка не сотрется и ручки не оборвутся. Их стирали и сушили, вешали в ванной на веревках.
– В темноте-то… по лицу… я чуть мимо унитаза… чуть не промахнулся, Томк…
– Дурачок, трусишка.
– Ну я тебе сейчас покажу трусишку!
– Нет, нет, давай немножко поспим. Чуть-чуть, сил наберемся…
Она обняла мужа, и он, положив голову ей на плечо, мгновенно (ее всегда забавляла и поражала эта его способность!) уснул. Долговязый и костистый, худой и еще такой молодой, он напоминал ей младенца, сына, которого пока еще у нее не было.
А она ощущала себя такой счастливой, смятой, как простыни, влажной, пахучей, встрепанной, переполненной до краев. Вспаханное юным пахарем поле, райская птица, сверленая жемчужина, объезженная кобылица… пена морская, удобренная семенем, готовая родить, выплеснуть на брег…
Где-то она все это читала…
Кудрявые фразы… слова…
Надо бы встать и раздвинуть шторы, чтобы первые лучи солнца разбудили и…
А какой завтра день, может, суббота?
Она уснула. И муж ее спал. И когда раздался негромкий хлопок… там, на улице, далеко… и дом, их новый восьмиэтажный блочный дом, окнами на городской парк и аттракционы, вздрогнул, они не проснулись.
Над массивным зданием в районе четвертого блока клубилось черное облако, ночь впитала его. Потом возникло голубое свечение – призрачное, мертвенное, сменившееся белым облаком пара, поднявшимся вверх, закрывшим луну.
На углу возле остановки затормозил автобус, двери открылись, закрылись – ни одного пассажира. Ночь…
Где-то далеко-далеко завыли сирены пожарных машин. Но все эти звуки ночь тоже впитала в себя, как и дым, как и голубое свечение, как и пар, устремившийся к луне.
Тамара проснулась от того, что ей захотелось в туалет. Выскользнула из-под одеяла, стараясь не разбудить Анатолия. Походя раздвинула шторы. Утро, поливальная машина ползет.
Она сходила и вернулась, поняв, даже не глядя на часы, что еще очень рано и если Толька вот сейчас проснется, откроет глаза и увидит ее на фоне окна… Портрет обнаженной на фоне окна… Портрет новобрачной на фоне окна… Семейный портрет в интерьере на фоне…
За первой поливальной машиной по улице ползла вторая, третья, четвертая. Струи воды били фонтаном, омывая не только тротуар, но и стволы деревьев, остановку, стены домов, окна первых и вторых этажей, крышу одноэтажного магазина «Молоко», припаркованные автомобили.
Тамара как завороженная смотрела на этот водный цирк коммунальных городских служб, а потом глянула на небо. В небе среди серых клочкастых туч на том самом месте, где ночью висела луна, паря над городом Припятью, зияла трещина.
Черная и страшная, похожая на оскал, что уродует белую гладь чистого речного льда во время ледохода, трещина.
Стало очень темно. Там, за окнами, или здесь, в глазах, на сердце… Но вот снова, словно испугавшись худшего, зажгли свет, щелкнув выключателем там, на небесах, в «Киевэнерго». Небесная трещина сомкнулась. Крупная птица – галка или ворона, а может, ворон вещий, взявшийся невесть откуда, спугнутый со своих привычных гнездовий, – парила высоко в небе, сначала плавно, словно высматривая новую поживу, а потом неровно, зигзагообразно, будто напоровшись на что-то…
И вдруг камнем сверзлась вниз, разбившись о крышу соседнего дома.
Глава 2
Признание
Наши дни
Свекровь Марья Степановна, колтыхаясь и пронзая палкой половицы пола, вплыла на террасу и скрипучим голосом приказала, чтобы собирали ужин. Галина Шелест отложила книжку, которую она не читала, и выключила маленький телевизор, который она не смотрела, а лишь воспринимала звук.
Смех…
Аплодисменты…
Голос ведущего шоу…
Рекламная пауза, когда все грохочет и мельтешит там…
Там…
А здесь, дома…
– Голубцы с обеда остались, надо доесть, – твердо отчеканила свекровь, – Вставай, не сиди. Я сейчас Филю позову. Филя! Фи-иля!
Голос зычно разнесся по дому, врываясь с террасы на второй этаж сквозь все закрытые двери в мастерскую мужа. Галина встала и пошла на кухню. Вот ведь свекровь, в чем душа держится, хилая, два инсульта, а голос… Контральто, сорок лет службы в хоре Большого театра за плечами, не в солистках, а «у воды», как там говорят про хор и массовку.
А когда девочку хоронили… нашу девочку Машу хоронили, то она, свекровь, ни слезинки здесь, дома… И на кладбище не ездила по причине немощи. И «Скорая» ей тут, дома, не понадобилась. И паралич ее, змею, не расшиб. Неужели никакого горя в ее сердце? Или в таком возрасте уже все атрофируется, склероз?
– Ты должна не сидеть, а делать, делать что-то, делать. – Словно подслушав ее мысли, свекровь Марья Степановна преградила ей дорогу, стуча палкой. – Так и с ума сойти можно – в ящик пялиться целый день. Оля звонила?
– Да, она каждый день сейчас звонит, спрашивает, как мы.
Оля – это старшая дочь. Ей уже тридцать два, она давно замужем – вышла за голландца и уехала, живет в Гааге, муж – водитель-дальнобойщик, лучшей партии там, за бугром, не нашла, это с Суриковским-то училищем, с талантом. Двое детей, талант побоку, домохозяйка, русская жена. И на похороны сестры, младшей Маши, она приехать не сумела. Плакала, правда… горько плакала в трубку, но так и не приехала на похороны.
– Передай ей, как позвонит, что я ее… – свекровь Марья Степановна опять, словно угадав мысли Галины, запнулась, – люблю. Не осуждай ее, там свои порядки, муж. Она ж у него на иждивении.
Когда-то давно этот вопрос об «иждивении» стоял ребром и в их семье. Когда они поженились и появилась старшая Ольга и когда они покупали этот вот дом и этот участок. Мужу Филлиппу Семеновичу – скульптору, тогда уже признанному мастеру – нужна была просторная мастерская. И квартира им тоже требовалась позарез, потому что в коммуналке на Ордынке, где он проживал в двух тесных комнатенках с матерью-хористкой, с маленьким ребенком, – не то что лепить, ваять, а и повернуться…
Какие-то деньги появились, и решили купить этот дом – вот здесь, тогда еще в подмосковной деревушке. А сейчас тут… все застроено, уж и не разобрать, где город, где пригород. И дом они потом сколько лет доводили до ума, расширяли; как какой гонорар, лишняя копейка, так все в тес, в рубероид, в кирпичи, в эту вот печь с камином, обложенную изразцами. Вопрос об «иждивении» в те времена воинственно поднимала свекровь: мол, я работаю, все еще пою, и ты, Филя, сынок, работаешь как вол, выставляешься, заказы берешь – любые, хоть по призванию ты – скульптор-анималист от бога. А вот Галина твоя…
Потом родилась Маша – младшая. И свекровь умолкла. И Филипп бросил пить. И долго в рот ни капли не брал. Но вот после похорон дочери… нет, когда там, в пруду, нашли ее тело, ее бедное истерзанное тело…
Нет, нет, тут он еще держался. Подставлял даже ей, жене своей, плечо свое, потому что она в тот момент была никакая, не помнила ничего, не воспринимала мир – краски, звуки, запахи, всю эту божественную прелесть и разнообразие. Они вместе ходили по вызову следователя в морг на опознание тела и в прокуратуру тоже. А потом задержали убийцу.
После этого Филипп Шелест, муж ее, с которым они прожили так долго, снова и запил. И все эти месяцы он…
– Пил сегодня? – спросила свекровь.
– А то вы сами не знаете.
Со вчерашнего дня мусор на помойку не носили, если открыть ведро и глянуть, сколько там водочной тары порожней…
– Ну хотя бы он работает. Вот только работу бы не запорол пьяный. Филя! Спускайся! Ужинать!
Свекровь для пущей острастки постучала клюкой своей по перилам лестницы на второй этаж. Почти всю площадь там занимали мастерская и комната Маши, которую она превратила в свою собственную мастерскую. Она ведь тоже окончила Суриковское училище и имела талант. И даже получила свой первый заказ на роспись новой церкви. А этот подонок… этот мясник… убийца…
И ведь он же приходил к ним домой. И с Павликом, и потом, когда тот погиб, приходил один.
В первый момент, когда стало известно, что его арестовали и что это он убил Машу, возникло такое чувство… вот здесь, где сердце… Галина, стоя у плиты, на которой разогревался сотейник с голубцами, прижала руку к груди. Взять бы пистолет и прийти туда к ним в изолятор, где он сидит… мясник, подонок. И всю бы обойму прямо ему в лицо, в глаза, в живот.
Но где достать пистолет? И где сил взять? И муж, Филя, не отомстит за смерть дочери. Это только там у них на Кавказе до пятого-шестого колена – кровная месть. И это правильно, и это так и должно быть, потому что горе… горе матери жгуче как пламя, горе всей их семьи…
– Ужин готов, что ли?
Она услышала голос мужа за спиной и обернулась.
Готофффф… И вы тоже готоффф… Выпимши, поддавши… В неопрятной бороде, в старых вельветовых домашних штанах, линялой футболке. Нос в красных прожилках, брови как черные запятые.
Муж-скульптор… Когда она девчонкой-студенткой выскакивала за него замуж, уже беременная первенцем, все казалось так романтично. Муж-скульптор, две работы проданы в Америку, выставляется регулярно… Купим дом в деревне и превратим его в усадьбу… Мастерская… друзья-художники… посиделки, книжки Довлатова в самиздате… Толстые прогрессивные журналы… демократические веяния…
Но все оказалось гораздо прозаичнее, беднее и скучнее.
Нехватка денег и вечная за ними погоня.
И заказы… Талант скульптора-анималиста тут, признаться, выручил. Стало модно ваять медведей! Бронзовые скульптуры «мишек» пользовались бешеной популярностью – их покупали даже для городской администрации и партийных штабов. И муж ее лепил этих самых «русских медведей». А еще орлов.
О да! Орел, клюющий змею, орел, сидящий на скале, орел, расправивший крылья…
Почти в каждом чиновничьем кабинете торчали эти самые «орлы, расправившие крылья». Их дарили на юбилеи и дни рождения, при назначении на новую должность, их любовно покупали, заказывая по Интернету.
А ее муж Филипп их лепил, ваял, а потом отливал аккуратненько в бронзе.
Вот и этот большой заказ на семь тысяч долларов. Он получил его сразу после гибели Маши… После того, как ее убийцу задержали.
Орел в виноградах.
Отчего это? Почему в виноградах? Но так заказчику захотелось: фонтан садовый бронзовый в виде орла среди виноградных гроздей – символ могущества и процветания.
А если смерть все взяла? Все забрала с собой туда из этого дома, не оставив ничего, кроме…
Ее рисунков, набросков, фресок.
И этих вот голубцов…
– Подгорели? – спросил муж Филипп.
– Кажется. Я не уследила.
– Пустяки.
– Садись за стол.
– Я только в ванную, умоюсь маленько.
– Там в холодильнике баранина… Доешь?
– А то. Слышишь, чего это собака лает?
Он прошел в ванную мимо нее. А она вышла с кухни на террасу, открыла дверь во двор.
Сад, август, рябиновые грозди над забором. Все заросло. Клумбы все в траве, но на грядках с огурцами – порядок. Кто бы сказал ей раньше – ее дочь зверски убили, а она… трех месяцев еще не прошло, а она уже солит огурцы на зиму и консервирует помидоры.
И плачет…
Плачет все реже, реже…
Вот и сейчас, когда бешеным лаем заливается Кунак, их черный как уголь маленький пес, нет, ее, Машин, песик, которого когда-то ей подарил на день рождения Павлик – ее жених, и он… Руслан, его лучший друг, ее убийца.
В сумерках летнего вечера Галина Шелест увидела, как маленький, отчаянно храбрый песик вьется, рыча, у самой калитки. Кто-то чужой там, за забором. Она спустилась, поймала собаку за ошейник, и песик тут же затих. Она открыла калитку и увидела человека в рясе.
Она сразу его узнала – отец Лаврентий. Этот молодой священник из церкви. Они давно не виделись, с тех самых пор, как пропала дочь. Нет, с тех самых пор, как ее тело нашли в Гнилом пруду.
– Это кто там к нам? – раздался с крыльца пьяный голос мужа. – А, батюшка… его святейшество, или как там вас величать. С утешением скорбящих. А я не нуждаюсь, слышите вы?
– Извините его, отец Лаврентий, – Галина Шелест шире открыла калитку – Проходите.
Она смотрела на него. Он был высок и молод. И борода у него не росла, даже пух не покрывал юношеские щеки.
– Я пришел вам сказать… – Он смотрел на нее. И более внимательного, пристального, изучающего взгляда ей не доводилось видеть ни до, ни после.
– Да что же вы на пороге-то, проходите, пожалуйста.
– Я пришел вам сказать… – он шагнул к ней. И что-то изменилось в его лице – не улыбка, не гримаса, не судорога и не боль. Что-то еще, что ей опять же не доводилось никогда видеть в жизни, – ведь это я тогда убил вашу дочь.
Глава 3
Поручение
День представлялся убийственно скучным: совещание в главке. Это означало всеобщее нудное бдение в актовом зале на пятом этаже и затылки, затылки, затылки. Катя – Екатерина Петровская, по мужу Кравченко, капитан и криминальный обозреватель пресс-службы подмосковной полиции, – обычно на совещаниях сидела в последних рядах – так всех выступающих с мест хорошо видно и не надо вертеться, оборачиваться, знай строчи в свой репортерский блокнот.
Почти все начальники, прибывшие в главк из районов, облачились в мундиры, в штатском почти никого не было. Нет, вон там, в середине, в третьем ряду, где густо усижено дюжими полицейскими, маячит круглая как бильярдный шар, лысая голова. Шеф криминальной полиции полковник Федор Матвеевич Гущин, вернувшийся из служебной командировки из Амстердама, где он так настойчиво и въедливо изучал заграничный полицейский опыт.
А то нам своего опыта не хватает! Своими мозгами жили и дальше как-нибудь…
Это с присвистом «охо-хо» просвистел шепотом сосед сбоку. Катя встрепенулась: с совещательной трибуны бубнили как раз про «новый опыт работы». И она трудолюбиво начала фиксировать в блокнот. Слова, слова, слова…
Кислое какое настроение что-то у всех. Никакой радости в глазах. Всего полчаса назад она, Катя, в преддверии большого совещания у себя в кабинете с упоением красила розовым блеском «Шанель» губы и вертелась перед маленьким зеркалом, оглядывая свой, как ей представлялось, безупречный черный брючный костюм (она была в штатском). Но никто из знакомых не улыбался и не говорил ей комплиментов. Все деловито и насупленно проходили в зал и рассаживались, а сейчас так же насупленно и сонно смотрели на трибуну и стол президиума.
Вообще это лето какое-то сумбурное. Очень много разных перемен и преступлений что-то тоже слишком много. И каких! Кате казалось, что ее верный маленький друг-ноутбук распух от фактов, таких потрясающих интересных фактов. Вот бы взять и выдать это все на-гора. Но времени, времени нет. И на себя, любимую, тоже времени совершенно не хватает. Вот уж совсем было собралась в отпуск…
К мужу…
За рубеж…
Разводиться…
Впрочем, это какая-то бесконечная история. Муж – Вадим Андреевич Кравченко, именуемый на домашнем жаргоне Драгоценным В.А., вот уже сколько месяцев проживающий и путешествующий за границей в качестве начальника личной охраны своего работодателя олигарха Чугунова – пожилого, безмерно больного, капризного как дитя и все больше относящегося к своему начальнику личной охраны как к родному сыну (вот странность-то, а?) по мере ухудшения самочувствия… Короче говоря, муж в разводе категорически отказал. Категорически!
И не приставайте ко мне с этим.
И не звоните даже по этому поводу.
Нет, нет и нет.
Не дам.
Что, Катька, свободы захотела?
А если сама там, в Москве, подашь на развод – застрелюсь сей же секунд.
Катя в это, конечно, не верила – в это самое «застрелюсь». Если бы он звонил, надоедал, клялся – «вот увидишь, застрелюсь!». Но Драгоценный молчал как рыба. Сказал раз – и словно отрезал. И Катя хоть и не верила ни на грош, но все равно в глубине души страшилась.
Боязно…
Хоть бы там, за границей, девицу себе какую-нибудь завел, тогда бы…
А то нет у него там девиц, можно подумать!
Это я тут только службой полицейской занята. Все работаю, работаю. Можно подумать, что он там, в клинике в Кельне у постели работодателя, только и делает, что сидит, сказки старику вслух читает.
Хоть бы позвонил.
Дожидается, чтобы я первая…
Не дождется.
У Кати тут на совещании отчего-то вдруг зачесались глаза. И крохотная предательская слезинка… А генерал с трибуны бу-бу-бу… Совещаетесь все, планы борьбы с преступностью на перспективу строите, а здесь личная жизнь разваливается на куски. И делать-то что не знаешь… Ну, положим, во многом она сама виновата. Доля вины во всем этом и ее тоже есть, но…
Хочет, чтобы я первая позвонила. Ну позвоню. А что он скажет? Во-первых, возомнит о себе сразу бог знает что. Перья распустит как павлин, это ж Драгоценный. Во-вторых, скажет: бросай все… О, как в фильме: бросай все, я твой, и… бери визу, мчи ко мне. В Кельн, Баден, а потом… потом куда с полуживым работодателем Чугуновым? Куда врачи старика пошлют? И кем мы там, сладкая парочка, будем? Прислугой?
А работа… служба… работа моя как же?!
– Екатерина, здравствуй. Подросла ты, что ли, еще или опять похудела?
Катя снова встрепенулась – ага, совещанию-то капут! Наконец-то! И как все оживились сразу. Поднимаются, говорят, шутят. На этот раз обошлось – никого не сняли из начальства, никого не турнули. И Гущин – старый добрый полковник Гущин вернулся из Амстердама, ждет ее в проходе.
– Здравствуйте, Федор Матвеевич! Это я на каблуках.
Катя глянула: Гущин-то словно меньше ростом стал. Отчего так бывает, когда кто-то возвращается после долгого отсутствия из стран заморских? Загар темнее, потолки ниже, коридоры уже, а эти вот морщинки-лучинки в уголках глаз…
– Екатерина, дело у меня к тебе. Поручение, даже два поручения. Зайди минут через двадцать ко мне.
Краткие минуты ожидания Катя провела с пользой – «забила» часть информации по совещанию в компьютер и… и, естественно, снова вертелась перед зеркалом, подкрашивая блеском «Шанель» губы. Затем придирчиво проверила, не появились ли от солнца веснушки на носу. Потом показалось, что туфли жмут – новые, и она сняла их под столом, но тут же снова надела.
Пора. Начальник криминальной полиции вызывает сам (самолично!) криминального обозревателя пресс-службы. Это достойно занесения в красную книгу редкостей. И наверное, дело того стоит.
Чувствуя сладкий вкус блеска на губах, ласточкой беспечной летя по коридорам подмосковной полиции, Катя и представить себе не могла, с каким делом столкнется с легкой… нет, нелегкой руки полковника Гущина.
Какие странные, пугающие события впереди!
– Как Амстердам, Федор Матвеевич? – спросила она светски, заходя в кабинет Гущина.
– Глаза б мои его не видели. Но сначала понравилось. Они там особо не церемонятся. Чуть что – за дубинки… Вежливые, но заводятся с пол-оборота, моментально. Что-то как-то все чужое. Черт с ним, с этим Амстердамом, – Гущин кивнул на стул в самом начале длинного совещательного стола. – Дело у меня к тебе важное. Только приехал, думал, отдохну маленько, а тут муть эта двойная. Прямо несчастье на мою голову.
– Несчастье?
– Погоди, об этом потом, это второе у нас на очереди, – Гущин говорил как-то странно, путано. – Сначала про дело. А то второе из первого логически вытекает.
«Что из чего вытекает?» – удивилась Катя.
– Вас ведь этому специально учат.
– Чему, Федор Матвеевич?
– Ну разговаривать, язык общий находить с разными там представителями… общественных пластов, то есть организаций. Фанаты футбольные, рехнешься с ними… И с этими дундуками из объединений, из партийных штабов. И с попами, муллами, раввинами… То есть служителями культа.
– С представителями церкви? – спросила Катя.
– Да, да, с ними.
– У нас же Управление по связям с общественностью, мы обязаны…
– Умеешь ты это – языком чесать, ловкие слова всякие знаешь, читала много. Понимаешь, с ним допрос обычный, нормальный не проходит. Молчит, вроде обет какой-то дал… Молчит! А допросить, побеседовать с ним мы обязаны. Потому что все дело из-за него встало. И разваливается прямо на глазах. А дело крепкое, раскрытое полностью, расследованное, доказанное. Его уже в суд пора направлять.
– Федор Матвеевич, я ничего не понимаю, простите.
– Двенадцатого июня в пруду у железнодорожного переезда в Новом Иордане обнаружен труп Марии Шелест – двадцать четыре года, дочка скульптора, лауреата всяких премий. Живут они там же, в Новом Иордане, еще в конце семидесятых дом деревенский купили и построились крепко. Насколько я знаю, обнаружили тело быстро, с момента смерти менее суток прошло, и розыск местный новоиорданский сработал хорошо – по горячим следам и по свидетельским показаниям сразу задержан был некто Руслан Султанов, там же проживает, в этом районе, в поселке Динамо. Он знакомый девушки и домогался ее, угрожал. Свидетельская база хорошая, все подтверждено. Хотя тело в воде пробыло и недолго, но экспертам там особо не развернуться, сама понимаешь. Так что все на свидетелей ложится целиком. Все допрошены, очные ставки проведены. Султанову уже обвинение предъявлено в убийстве, и он сам сейчас на психиатрической экспертизе в Чехове, в больнице Яковенко. Сегодня-завтра его бы привезли, ознакомили с делом и все материалы направили бы в суд.