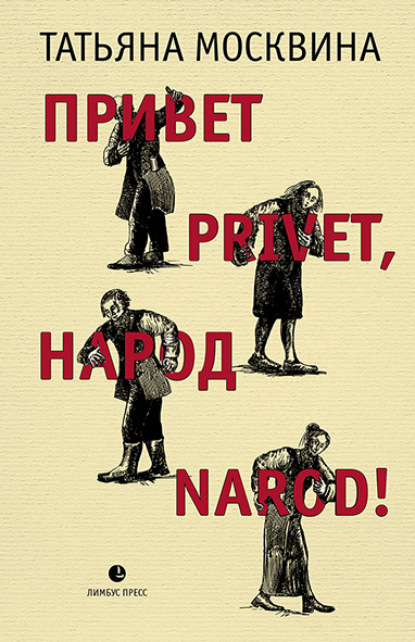Полная версия:
Татьяна Владимировна Москвина Жизнь советской девушки
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Татьяна Москвина
Жизнь советской девушки
© Москвина Т.В.
© ООО «Издательство АСТ»
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
…И когда я забуду всё, что я любил, я умру…
Гайто Газданов
Увертюра
Я пишу для тебяЯ не могла понять, зачем и для кого буду писать эту книгу, пока не увидела её.
Случайно на улице, шла мимо. Девушка лет восемнадцати в мешковатом чёрном пальто, длинные русые волосы, кое-как подстриженная чёлка. Что-то нелепое в фигуре. И в манерах. Что-то категорически не совпадающее с реальностью, порывистое и ужасно трогательное.
Она не видела меня, увлечённая своей книжкой или своими мечтами.
Она смотрела куда-то серо-голубыми северными глазами, а я замерла в узнавании… Я так хорошо знала этот зачарованный рассеянный взгляд, эти обкусанные ногти, эти бедные разбитые туфли.
Я всем нутром ощущала, как она талантлива и как несчастна. И я знала, что ещё долго-долго придётся ей быть талантливой – неизвестно, в чём, – и несчастной, а это уж слишком ясно, отчего.
Это женский мутант.
Это результат жестокого эксперимента по внедрению духа в природу.
Это женщина, которой досталась искорка творческого разума.
Это я.
Это я несколько десятилетий тому назад – с отчаянным туманом в голове, зачитавшаяся до одури, бредущая по городу…
Видимо, такие всегда были, есть и будут – наверное, существует норма в процентах. Я думаю, процентов пять – семь от общего числа…
Или уже больше?
Или всё-таки меньше?
Я не знаю. Но мне хотелось бы написать книгу, которая помогла бы этой девушке выстоять в жизненной борьбе – выстоять и, быть может, победить.
На этом месте многие читатели могут и надуться. Скажут – а что, если у нас ногти не обкусанные и взгляд не зачарованный, и если мы вообще мужчины средних лет, так что же, нам и книжку эту читать не разрешается?
Что вы, что вы. Сегодня я приглашаю всех! Я же буду рассказывать о своей жизни, а это вызывает аппетит у многих. Я сама с наслаждением читала жизнеописания людей, с которыми не имела ничего общего ни по полу, ни по возрасту, ни по судьбе – но чем дальше от себя, тем даже лучше, своё-то мы и так знаем.
Пусть ко мне на огонёк приходят самые разные люди, пожалуйста. Я говорю лишь о внутреннем послании, о письме «неведомой подруге» или ученице, которую никогда, наверное, не встречу в реальности, – это я сама восемнадцати лет, возродившаяся вновь, сейчас, в этом мире.
Мне кажется, ей сейчас горько, трудно, странно. Её мысли и намерения путаются. Она не знает, что ей делать, куда идти, где её путь. Мир жарко и пошло наваливается на душу, бормочет бредовое и сбивает с толку – а настоящих друзей мало. Почти нет. Их может не быть вообще, так бывает…
Я окликаю тебя.
– Эй, ты! Да, да, ты, с толстой книжкой в руке, в стоптанных туфельках, с туманной, гудящей от слов головой!
Тебе кажется, что ты одна – и это так, ты одна, но… ты не одна.
Побудь со мной.
Послушай меня.
Я расскажу, как долго и трудно я шла к самой себе. И ещё неизвестно, пришла ли. Из моей нелепой жизни нельзя вывести никакого урока, но что-то понять из неё – мне кажется – можно.
Я вас не боюсьМоя первая книжка, сборник эссе «Похвала плохому шоколаду», вышла в 2003 году, из чего, как вы понимаете, следует, что автор удосужился собрать свои сочинения в книгу, уже «отмотав срок» в сорок пять лет. В следующем, 2004 году появился мой первый роман, «Смерть это все мужчины», и я стала считаться писателем, которым, конечно, была от рождения, чего мир просто не знал.
Но почему так поздно? Что это за литературный дебют такой – в сорок шесть лет?
Я могу предъявить высокому суду всякие черновики, рукописные и машинописные, разных лет – простите, я писала, писала… только никому не показывала и ничего не завершала.
Тут дело, конечно, не в семье (муж, двое детей), которая брала силы, но уж не настолько, чтоб не смочь написать книжку.
(Каждый день по страничке – через год будет книжка!)
И не в трудностях самого процесса (всё ж таки молотить на машинке было очень утомительно). Но вела же я исправную критическую деятельность, сочиняла статьи, иногда довольно большие. Бывало, что я писала от руки, и рука дико уставала. Тем не менее я написала за три дня пьесу «Рождение богов», зелёной шариковой ручкой, в припадке вдохновения. Стало быть, и это не оправдание. Даже без верной Софьи Андреевны (жена Толстого переписывала его сочинения, но у меня не может быть жены, я сама жена!) давно могла бы ты, девушка, написать свою «Войну и мир».
Ну, так в чём же дело?
Дело в ужасе перед людьми, перед их мнением.
Я боялась всеми кишочками души оказаться отвергнутой и осмеянной. Это сейчас внутри выросло что-то вроде дерева и оделось корой, правда, не особо прочной. А до «великого одеревенения» моя душевная природа состояла, как тело матерого бойца, из ран, ожогов, синяков, обморожений и прочих злополучий, в разных стадиях заживления…
В детской жизни было два горестных случая. То есть их было двести двадцать два, но эти запомнились острей всех.
Меня отдали в школу – ещё семи лет не было – зачем сидеть в детском саду смышлёному ребёнку, который свободно читает и пишет. Трудности в общении со сверстниками, некоторую угрюмую отъединённость от мира, чрезмерную ранимость просто не заметили. (Я всегда была скрытной – коренное свойство натуры.)
Так вот, школы я испугалась. Так испугалась, что несколько раз на людях описалась от страха. Дети смеялись – учительница, добрейшая Тамара Львовна, взяла меня под защиту. Ничего очень уж страшного не было, травли там или постоянного издевательства, дети были неплохие, потом я подружилась с некоторыми и защитилась ими от стаи. Но забыть ощущение позора трудно.
Дома ничего не сказала.
Второй случай. Меня в начальных классах оставляли на продлёнку, часов до шести в школе – делать уроки, читать под надзором. И кормили ещё какой-то дрянью. Так ужасна была жареная картошка, отвратительная, горького вкуса – а я-то выросла на гениальной бабушкиной стряпне, – что я не могла это есть и потихоньку выбрасывала несъедобные дольки под стол. Кухонная работница заметила самоволку и стала возмущённо орать. Крупная злая бабища, а я тогда была маленькая, тихая, с косичками. Она заставила меня лезть под стол и собирать эту горькую невыносимую картошку, и я не посмела сопротивляться. Через шесть лет – смогла, всему школьном режиму смогла дать отпор, о чём расскажу, а тогда сил не набрала ещё. Полезла под стол, ползала там среди школьниковых ног, собирала картошку, они смеялись, ух как они смеялись! Помню атомную смесь жаркого красного стыда и солёных изобильных слёз.
Я думаю, надолго остался ужас – сделать что-то не то, над чем будут смеяться. Но его больше нет.
Страх перед насмешками и осуждением людским ушёл вместе с другими человеческими свойствами, из которых более всего мне жаль чудесной способности любить на ровном месте. Она, эта способность, очень скрасила мне жизнь.
Я не боюсь людей. Наверное, я их больше не люблю – и оттого совсем не боюсь.
Я кровно приварена к семье, легко отдам жизнь за детей, многие люди меня восхищают, есть те, кто дорог и симпатичен. Но любви больше нет – надорвалась, устала я любить.
(Мне кажется, если быть честными и посмотреть внимательно и строго вглубь жизни – уходит любовь-то, утекает от нас…)
Ну, об этом мы ещё поговорим, а сейчас важно то, что отдельная русская женщина совершенно распустилась и осмелела. И собирается рассказать о своей жизни, дерзко выкрикивая «я вас не боюсь!»
И чего мне бояться? Я научилась жить среди равнодушия, без горячей заботы о себе, без подарков судьбы, в беспокойстве и раздражении постоянном. Когда меня оскорбляют, мне больно, но через два – три дня всё проходит. Женщины часто воспринимают триаду «деньги – слава – любовь» как возможную защиту от холода и боли (любовь тоже боль, но иного рода) – однако я выучилась жить и с холодом и с болью. Я терплю холод, как почтальон в старину, отправленный в дальнее поселение с важным письмом, я терплю боль, как терпит её человек с вылезшим гвоздём в ботинке, который ежеминутно терзает пятку, – и ботинок почему-то нельзя снять.
Тем более что радость хоть не каждый день, как солнце на Севере, но согревает душу.
Пока что – всё терпимо.
Зря я так боялась.
Я что-то знаю?Я, я, я, я… Забавно придумала Рената Литвинова имечко для своей глухой героини в сочинении «Обладать и принадлежать» – Яя. Внутри нас действительно живёт какая-то «Яя», и любит она про себя сказки сказывать и приговоры приговаривать.
Над этим посмеивался гениальный Шварц Евгений Львович в гениальных своих дневниках (которые до сих пор вроде бы полностью не расшифрованы), где писал без придумок, с натуры – людей, годы, жизнь. У него есть пассаж про художника Лебедева, который любил самые обычные свои движения сопровождать торжественным «У меня есть такое свойство…».
«У меня есть такое свойство – я терпеть не могу винегрета…»
Ох ты батюшки, свойство у него.
Думаю, и вы встречали немало таких людей, важно сообщающих нам совершенные пустяки, как рельефные, полные смысла личные «свойства».
«Я пью только зелёный чай».
«Я плохо сплю в поезде».
«Не люблю печёнку!»
Ну а что, собственно, нам говорят про человека подобные «свойства»? Ничего. Разве что помогают притереться к индивиду, если судьба его к вам привела-приткнула. Если он ваш гость, к примеру, – ладно, заварим ему зелёного чаю. Не дадим печёнки. Мы гуманисты.
Другое дело, если человек заявит что-то из области ментальных пристрастий.
«Почти не читаю художественной литературы, она меня утомляет, мне скучно».
«Русский рок? Нет, не перевариваю, увольте».
«Сейчас хожу только в Студию театрального искусства Женовача – это лучшее, что есть в Москве».
Уже ничего, можно какой-то разговор затеять. Поспорить хотя бы, правда, те воображаемые фразы, что я привела, рисуют портрет довольно категоричного, намеренно ограниченного человека, и спорить с ним будет трудно.
Но я веду к чему? К тому, что самоопределение через набор свойств – чаще всего маленький Яя-театр. Человеку хочется построить и сыграть цельный художественный образ себя. А потом его ещё и проанализировать! Не только перевоплотиться в образ себя, но и рассказать о нём. Выполнить одновременно функции художественного творчества и критического анализа!
Поразительно, но многие с этим справляются отлично. (Никто не сообщает только одного – каков его обычный процент лжи в рассказе о себе, никто и никогда.) Так что, общаясь с человеком, имеешь дело с двумя существами: с ним и с его художественным образом.
Крайний вариант такого раздвоения изумительно сыграл актёр Сергей Русскин в роли Иудушки Головлёва («Господа Г.» по роману Щедрина «Господа Головлёвы», театр «Русская антреприза имени А. Миронова», Петербург). Иудушка – бездушный выродок, он родился дефективным, бесчувственным к людям, с сильными, хищными первобытными инстинктами, что-то ужасное есть в этой полной бабьей фигуре с адскими ледяными глазами, что-то от нелюдя, тролля, болотной нежити. Но он сам считает себя прилежным христианином, образцовым человеком, близким к ангелу! Он обирает ближних с неумолимостью насекомого, и при этом слово «бог» не сходит с его уст, принимаются смиренные позы, он сам себе кажется прекрасным, благородным, справедливым, добродетельным!
Ага, скажете вы, но придумка себя идёт изнутри – есть же «объективные показатели».
Хорошо. Я смотрю на себя в зеркало – вижу немолодую женщину среднего роста, очень крупную, полную, с огромной грудью и животом. При этом у меня тонкие запястья, щиколотки и шея. Осветлённые волосы обстрижены и не доходят до плеч, глаза зелёные, но многие утверждают, что голубые – странный, не разгаданный мной эффект. Слева в углу губ большая родинка с явной перспективой на бородавку. В разных странах мира меня принимали только за русскую. Лишь однажды – за польку! Помню, как ленфильмовский гример Коля, когда я пришла на грим для картины «Мания Жизели», посмотрел в зеркало и сказал: «А что её гримировать? Хорошее русское лицо». Подумал и добавил: «Типа Крупской».
Хорошее русское лицо типа Крупской. Хорошее, нормальное русское чудище женского рода.
Но там, внутри себя, я же ничего этого не чувствую! Ни веса, ни возраста, ни цвета глаз, ни родинки – ничего…
Внутри меня обитает та, чьего имени я не знаю и называю её Мать – Тьма, великаяТьмать, и моё тело нужно только для поддержки её временных границ.
Она заперта во мне. Она где-то есть в полной мере не во мне, как где-то есть океан, но она есть и во мне – она меня создала, и я не могу не отзываться, когда она зовёт.
Тьмать доходит до головы, но там она всевластия уже не имеет. Туда она протекает во время сна полностью, а с пробуждением медленно и неохотно утекает, оставляя густые, тёмные, долго высыхающие следы. Там, в голове, неравномерный свет – то блистающий и острый, то спокойный и мерцающий. Иногда он так разрастается, что чудится, будто заливает он всю Тьмать, затаившуюся внизу, в родовых глубинах. Но уж оттуда её не изгонишь, не вытравишь ничем и никогда!
А среди борений света и тьмы, кто там поёт и чирикает?
Да так. Какая-то птичка. Вот залетела и поет. И я её спрашиваю утром: ну что, как дела? Будем жить? И она отвечает: да-да! Будем жить-жить!
Птица моя капризница – то запечалится вдруг, то развеселится. Но вообще-то она питается радостью и дарит мне ощущением полёта, хотя где она там летает – уму непостижимо…
Но кто же здесь я?
А вот всё это хозяйство вместе и есть я. Всё это хозяйство, да притом в динамическом развитии от нуля до наших дней.
Об этом и расскажет вам мой «биороман».
Буду писать спокойно и просто.
Занавес, занавес, поднимайте занавес – я готова.
Глава первая
Недоношенная
Начало моей жизни было самое ужасное.
Беременность двадцатидвухлетней мамы Киры протекала непросто – она часто падала, причём на живот. Вообще, жизнерадостная выпускница Ленинградского военно-механического института, блиставшая в знаменитой самодеятельной драме Военмеха, только что вышедшая замуж за такого же простофилю, о семейном быте, рождении и воспитании детей подозревала смутно. Вечером, перед ночью моего рождения, мама играла с приятелями в преферанс – надеюсь, хоть это-то прошло у неё удачно.
Мама играла неплохо, знала варианты – «сочинку», «ленинградку». Итак, моё рождение было запланировано на обстоятельный, солидный и праздничный январь – а случилось в невротическом, революционном, «достоевском» ноябре.
Я родилась второго ноября 1958 года в Ленинграде, около часа ночи, даже не семимесячной, а шести месяцев двух недель, в клинике Отто, что на Васильевском острове, и весила один килограмм семьсот граммов. Сразу же после родов меня отправили в «барокамеру» – специальный инкубатор для недоношенных. Этим благородным делом заправляла легендарная женщина, которая, как говорили, «выращивала с девятисот граммов», – и приводили в пример артиста БДТ Михаила Данилова, как именно такого вот, выращенного из ничего.
Действительно, Данилов был убедительным аргументом в пользу цивилизации супротив Тарпейской скалы. Он был круглолицый, умный, вроде бы крепенький, талантливый, острый – но при этом глубоко печальный внутри и словно бы снедаемый тайными болями и недоумениями.
Проходит ли бесследно для крошечных существ эта самая «барокамера»? – размышляла я впоследствии. Там, конечно, тепло и кормят регулярно, однако нет никакого спасительного материнского живота – одиночество, тишина! И в этом одиночестве, затаившись, существо напрягает все жилочки организма, чтоб выжить.
Я часто вспоминала свой инкубатор потом, когда приходилось скрываться, таиться и вылеживать себя после катастроф. В мир не попасть, мир безнадёжно далёк, источники любви не иссякли, но тоже безнадёжно далеко. Вот и лежишь, почти не шевелясь, лишь изредка читая давно знакомую книжку – самого питательного свойства, вроде Чехова или Шварца, – и слушаешь глубины себя: набирает ли там силу светлый сок жизни, или пусто, тихо, темно…
В моём рождении что-то изначально пошло «не так». Какая-то нота неудачи, несчастья, недо… зазвучала над колыбелью. Всё было задумано славно, красиво, на широкую ногу, громкозвучно, победно – и как будто сразу же споткнулось об мир. Да, трубач удержал падающую трубу, дирижёр поймал, накреняясь всем корпусом, руководящую палочку, скрипка взвизгнула, но вывернулась из кикса, и хор, путаясь в партитуре, грянул песню под постепенно обретающий себя оркестр. Однако вместо победного марша явно вышло что-то другое.
В барокамере я пролежала почти месяц. Выглядела неважно. Папа, увидев меня, огорчился и сказал – ой, какая лягушечка, чем злостно обидел маму. Папа же обижать маму совсем не хотел, а искренне испугался за порожденную плоть.
Родилась в больнице дочка,Чистый вес – кило семьсот…Попадёт ли в коммунизмЭтот хрупкий организм?Это всё, что я запомнила из папиного стиха, а он любил сочинять «на случай», но главная шутка осталась в семейных преданиях навечно.
В коммунизм этот хрупкий организм не попал, как выяснилось.
Организм был этапирован в дом № 70 по Семнадцатой линии Васильевского острова, где, в квартире № 29, в единственной, но большой комнате (27 метров), вместе с маминой мамой, бабушкой Антониной, проживала молодая семья выпускников Военмеха – Киралина Идельевна Москвина и Владимир Евгеньевич Москвин.
И тут вступила мощным соло бабушка Антонина.
Почётный чекист.
Кавалер ордена Красной Звезды.
Чей сын Юрий Кузнецов отбывал срок в лагере (за воровство) – эхо войны, пожиравшей сотнями тысяч нестойкие мальчиковые души. Злосчастный дядя Юра – я увидела его только в семидесятых, носатого и грустного туберкулёзника такой застенчивости, что и вообразить было невозможно, будто это тертый лагерный калач, опытный зэк.
Бабушка бросилась на моё спасение с такой свирепой мощью, что подступившие к моему тощему тельцу, сладострастно осклабившиеся демоны, которым поручили затушить искру, потенциально опасную для тьмы, бежали в испуге. Я вообще не представляю себе сущности, посюсторонней или потусторонней, которая не шуганулась бы от моей Антонины Михайловны. Это в полном смысле слова была та самая «чёртова бабушка», с которой поопасился бы связываться сам Вельзевул.
Вспоминаю такой эпизод, случившийся уже в конце 70-х годов, когда мы с бабушкой снова жили вместе, в хрущёвке на Будапештской улице (дом 49, корпус 1, квартира 3). Бабушка отправилась в близлежащий «Гастроном» за яйцами, но из двух купленных десятков больше половины оказались тухлыми (почему все советские магазины, торгующие тухлятиной, именовались «гастрономами», – неразрешимая загадка истории).
Антонина Михайловна выбила гнусные яйца в белую эмалированную миску. Надела значок почётного чекиста (щит и на нём меч). Взяла в руки миску и направилась в магазин – к директору.
Представляю себе это шествие! Медленно и сурово, как героиня греческой трагедии, бабушка шла, сверкая значком, распространяя страшную вонь от битых яиц. К директору она прошла беспрепятственно – думаю, люди расступались перед ней, как волны перед миноносцем.
– Что это? Кто это? Что вам нужно? Кто позволил? – завопила отрицательная героиня советских милицейских картин – пергидрольная блондинка с каиновой печатью на оплывшем лице, директор магазина.
Бабушка села, потёрла значок почётного чекиста и поставила миску прямо ей под нос.
– Я – капитан госбезопасности в отставке Антонина Зукина, – молвила она. – А эти яйца я купила сегодня в вашем магазине.
Со временем мы стали постоянно выпускать бабушку в магазин за продуктами. Она имела успех, её узнавали и трепетали.
О, бабушка! Моё перо, как любил восклицать Гоголь, слабо для твоего описания! Дайте мне другое перо!
Бабушка происходила из толщи народной. Это не пустые слова. Я эту толщу чувствую в своей крови как главную опору. В этой толще шевелятся и подают мне приветственные знаки братья Кузнецовы – держатели портновской лавочки, забившие до смерти одного из братьев, Михаила, отца бабушки, там хлопочут Татьяна Ивановна, мать бабушки, и её сестра Серафима, там Вышний Волочёк, фабрика господина Рябушинского, Гражданская война, Ленинград, чемодан бубликов, с которым Антонина приехала в город Петра и Ленина, ткацкая фабрика, развесёлые дедушки и дядюшки с баянами, горькие пьяницы, игроки, один повесился, Шурка, там фигурируют Институт красной профессуры и комсомольская путёвка, по которой девчонка с фабрики отправилась служить в НКВД, там смутные дикие рассказы о плодах братоубийственной войны – которая была ещё и неслыханным изнасилованием русских женщин – плоды эти зарывали ночью в огородах, да что и говорить – там стоит адский стон оставленной Богом земли. И гудит страшная сила выживания этой земли. Я из тех, кто выжил и понимает, какова оказалась на Руси цена этого элементарного выживания.
Вот просто – плоть сберечь. Хоть какую-то. Такая у народа была задача в незабвенном Ха-Ха-веке…
И у меня с родными поначалу именно такая задача и оказалась – прямо в рифму.
– Принесли! – патетически восклицала бабушка, рассказывая мне о первых днях моей жизни. – Выродила моя Кирка! Кожа да кости, последняя стадия дистрофии! И я топлю, топлю печку, у меня жарища, дышать нечем. И ты не спишь ни днём, ни ночью, а Кирка сдаивается, а я тебя кормлю через рожок. У Кирки молока было море. Мы сдавали, она потом на эти деньги колечко купила на память. Топлю и кормлю, топлю и кормлю! Через три месяца привезли врачам – как куколку, щёчки, попки!
Бабушка была запредельно энергичный человек. Запредельно. Мы с мамой уже чистые вырожденцы по этой части. Она была гением домашнего хозяйства – в её исполнении то был апофеоз чистоты, экономности и высокой кулинарии.
Её отправили на пенсию, как многих служащих этой системы, сразу после смерти И.В. Сталина, и пенсия была небольшой – 55 рублей. Потом, уже в семидесятых, прибавили рублей двадцать – что бабушка восприняла с благодарностью, как восстановление попранной Хрущом справедливости. Распоряжалась Антонина Михайловна своим пенсионом виртуозно. Ни у кого не занимала. Берегла хорошие вещи, а хлам выкидывала каждый месяц и каждый год (так что, когда пришлось её хоронить в 1981 году, не нашлось ничего лишнего и ненужного, она выбросила почти всё)…
Принцип был прост: вещь не понадобилась год – вещь не понадобится никогда.
Несмотря на какой-то мифический «Институт Красной профессуры», который она якобы закончила, бабушка писала с ужасающими орфографическими ошибками и без знаков препинания вообще. Писала же она гневные записки, обращённые к маме, причём исключительно в подпитии. Что-то вроде «Кира ты знаеш как я болею и сказала тебе мать твоя всю жизнь помни бабушку татяну ты ни приехала никогда ни скажеш» – иногда было вообще не понять, чем бабуля недовольна, потому что она была недовольна неким глубинным генеральным недовольством, в котором мы, на нашу беду, всё-таки оказывались на авансцене.
Античное красноречие бабушки в соединении с малограмотностью давало исключительно сильные риторические плоды. Помню, в конце семидесятых годов, во время совместного житья на Будапештской улице, бабушка рисовала такую картину тяжкого совместного существования:
– Я лишена телефоном! – восклицала Антонина Михайловна. – Я лишена холодильником! Я лишена телевизором! Я всем лишена в этом доме!
Заметьте: трёхсложный период и кода. Просто Цицерон!
Моего отчима, Валерия Шапиро, бабушка припечатывала почище вялых перьев газеты «Правда»: «Ты не советский еврей, – утверждала она. – Ты – фашистский израи́лец!»
На Семнадцатой линии в её книжном шкафу темно-вишнёвого цвета было немного книг – избранные сочинения Сталина, «Анна Каренина» в двух томах, тридцатых годов издания, где сцена падения Анны была отчёркнута экстатической красной линией карандаша, и загадочный роман «Андрей Березин» неизвестного автора.
Я давно мечтаю найти «Андрея Березина» и не могу! Судя по всему, то была книга века, но только для одного читателя – для моей Антонины Михайловны.
Я уже не застала книгу на полке, потому как «Андрея Березина» у бабушки зачитали, но она помнила его почти наизусть. Она часто пересказывала мне перипетии романа, как всегда красочно привирая (бабушка была выдумщица та ещё!). Речь в романе шла, естественно, про этого самого Андрея Березина, русского советского человека, прожившего исключительно нелёгкую жизнь.