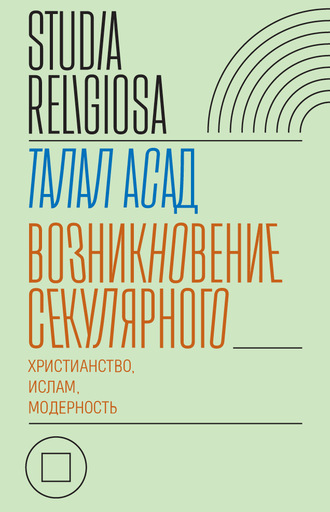
Талал Асад
Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность
В Европе XVIII века понимание того, что такое боль, претерпевало значительные изменения, которые затем ретроспективно получили название «секуляризация»85. Розалин Рей в своей медицинской истории боли описывает серьезную трансформацию в дискуссиях врачей, которые принадлежали к школе виталистов. Миф о наказании за первородный грех был их усилиями превращен в миф о наказании за нарушение законов природы (например, следование неправильной диете или отсутствие физических упражнений)86. Это было простое изменение в метафорическом смысле, в результате которого Природа была персонифицирована и наделена способностями, которыми изначально обладал Бог87. Тем не менее существовал и другой, более интересный, сдвиг, на который Рей также обращает внимание, сдвиг, который означал не просто метафорическую замену, а изменение грамматики концепта.
Цитируя философов, нападающих на оправдание боли христианством (чествование боли, которое начинается вместе с мифом о страданиях Христа), она указывает, что риторика греха и наказания была отложена в угоду другой88. В этой новой риторике боль объективируется, ее начинают укладывать в рамки механистической философии и накапливающихся знаний о живом теле, полученных посредством вивисекции. Р. Рей пишет об одном из важных ранних экспериментов: «Даже такой религиозный и действительно благочестивый человек, как Галлер, мог подходить к вопросу о боли, не прибегая к религиозным идеям; так было проще сделать тому, чья работа связана с экспериментами на животных, чем врачу [то есть тому, кто культивировал в себе искусство лечения и утешения]. Благодаря Галлеру и началам экспериментального метода определение чувствительности и соответствующих функций нервов и мышц получило более научное основание»89. То есть активность и пассивность стали различаться в эмпирической терминологии, которой чувство приписывается за первой и отрицается за второй.
В этом примере секуляризация боли сигнализирует не просто об упразднении трансцендентального языка (религиозных идей), но и о сдвиге к новой заинтересованности: от личных попыток утешения и лечения (то есть через проживание социальных отношений) к отстраненным попыткам обследования функций и ощущений живого тела. Боль систематически причиняется животным, чтобы понять ее физиологическое основание90. Таким образом, с одной стороны мы имеем боль как тему разговора между пациентом и врачом, с другой стороны, боль – это показатель, появившийся благодаря экспериментальному исследованию в контексте, где, как заметил де Серто, язык был деонтологизирован. Именно последняя модель направляет скептицизм Просвещения против притязаний шамана на способность лечить (фактически смешанную с готовностью впадать в экстатические состояния и «вдохновением» невидимыми духами) и помогает установить секулярную сферу знаний о физиологии на основе письменных отчетов о результатах экспериментов91. Термин «расколдовывание» должным образом не описывает изложенный контраст, когда на кону стоят различные модели чувствования боли и различные способы ее объективации. Основной вопрос, занимавший Галлера в его экспериментах с животными, состоял в том, является ли боль результатом стимулирования или производной той части тела, которой ее причиняли: «Именно для решения этой проблемы Галлер в экспериментах преумножил и разнообразил типы веществ и способов для стимулирования той или иной части тела, пользуясь методом исключения: так, он успешно применял тепловые, механические (разрывание, разрезание и т. д.) и химические стимулы. Электричество и особенно гальванизм, когда это явление было открыто, также предоставили способы измерения раздражимости частей тела и их остаточной жизненной силы после смерти. Все тело с головы до пят было скрупулезно исследовано: оболочки, клеточные ткани, сухожилия, апоневрозы, кости, хрящи, мускулы, железы, нервы и т. д.». Концепт «опыта», который издавна обозначал возможность проверки чего-либо, теперь использовался для определения внутреннего состояния через внешние манипуляции (эксперимент)92.
Тем не менее притязания шарлатанов (к которым часто относили шаманов) отметались не всегда. Иероним Гаубий, член Королевского общества и профессор медицины, рассматривал их риторику и легковерность, на которой она базировалась, как значимые для процесса лечения: «Врачи в значительной степени стремятся именно к такой вере, поскольку, если они знают, каким образом ее можно добиться по отношению к ним самим со стороны больных, последние делаются более покорными, а врачи получают возможность вдохнуть в больных новую жизнь простыми словами, более того, врачи обнаруживают, что сила их лечебных средств увеличивается, а результаты лечения просматриваются более определенно». Экстравагантные представления лекарей-шарлатанов, которые обещали избавление от недугов, подстегивали любопытство, а любопытство вело к надежде. «Возбуждение органов тела иногда таково, что жизненные силы изгоняют их инертность, тонус нервной системы восстанавливается, движение жидкостей ускоряется и сама природа уже начинает атаковать и бороться с болезнью, продолжительное лечение которой не приносило результатов, собственными силами. Поздравим же тех счастливчиков, которые поправились быстрее благодаря этому пустому искусству, чем посредством принятой системы лечения, с выздоровлением, независимо от причины!»93 Для Гаубия лечение представляло собой социальный процесс, в котором воодушевление целителя было оправданно не благодаря сверхъестественному источнику, а благодаря благотворному результату.
Интерес к используемым шаманами субстанциям, вызывающим измененное состояние сознания, разовьется гораздо позже94. В XVIII же веке вызывал интерес другой аспект фигуры шамана: шаман как поэт, мифотворец и артист. Глория Флаэрти обобщает данные Иоганна Георги, который описывал шаманизм в Центральной Азии и считал его источником народного творчества. «Как и оракулы Античности, современные шаманы – мужчины и женщины – говорят необычайно витиеватым и непонятным языком, чтобы сказанное ими можно было применить к любому случаю, независимо от результата. На самом деле совершенно необходимо, чтобы они поступали именно так, поскольку верящие в них пользовались только иероглифами, а не алфавитом, и сами имели представление только о том, как коммуницировать посредством образов и чувств. Резонирующее и повторяющееся пение было одной из самых любимых форм, поскольку его ритмы и звуки оказывали прямое влияние на тело, не обращаясь к высшим способностям разума…» Георги утверждает, что причиной является определенный тип нервной системы: «Люди такого склада и такой возбудимости должны иметь много фантазий, видений, суеверий и сказок. Так, собственно, и происходит»95. Шаманы, не будучи простыми шарлатанами, были, согласно известной фразе Гердера, поэтами, священными музыкантами и актерами-целителями, которые своими многочисленными трюками делали так, что аудитория смогла почувствовать в собственной душе силу, большую, чем она сама96.
Если риторику и поведение шамана рассматривать как искусство, то некоторых художников также можно считать шаманами. Если бы экстаз был знаком пророческого вдохновения, то он бы стал показателем художественного гения. Флаэрти пишет о развивающейся в Европе XVIII века теории гения, которая основывалась на классическом мифе об Орфее и этнографических описаниях шаманов, теории, которая в итоге обратила внимание на экстраординарный феномен Моцарта97. Тот факт, что публика его часто называла Орфеем, утверждает Флаэрти, был частью мифологизации великого артиста, его целительных и «окультуривающих» способностей, полученных через вдохновение. Она также, среди других современников, цитирует врача Самюэля Тиссо, описывающего «печать гения», о которой свидетельствовал процесс сочинения музыки Моцартом: «Иногда его бессознательно тянуло к клавикордам, как будто посредством некоей силы, и он извлекал из инструмента звуки, которые были живым выражением захватившей его идеи. Можно даже сказать, что в такие моменты он сам является инструментом, которым управляет музыка, его можно было представить набором струн, гармонично настроенных с таким искусством, что одну нельзя было тронуть, не коснувшись других; он может сыграть любые образы, как Поэт может сложить о них стихи, а Художник – написать»98. Таким образом, эта идея вдохновения выводилась из экстраординарного представления, которое давал художник, и наилучшим образом описывалась как следствие того, что он был захвачен внешней силой.
Теоретик изобразительного искусства Иоганн Зульцер писал более обобщенно: «Все художники любой степени гениальности утверждают, что время от времени переживали состояние необычайной психической силы, которое делает работу чрезвычайно легкой, образы возникают без каких-либо усилий, и блестящие идеи приходят в таком изобилии, как будто они являются дарами некоей высшей силы. Это состояние, без сомнения, и называется вдохновением. Если художник переживает такое состояние, объект его творчества предстает перед ним в необычном свете; его гений, как будто ведомый божественной силой, творит без усилий, придавая своим созданиям наиболее подходящую форму без какого-либо напряжения; самые замечательные идеи и образы возникают непроизвольно и подобно приливу у вдохновленного поэта; оратор выносит суждения с выдающейся проницательностью, чувствует с величайшей интенсивностью, и самые сильные и наиболее живые и выразительные слова слетают из его уст»99. Флаэрти считает, что такие утверждения очень напоминают описания шаманов, только в этом случае шаман описывается не скептически, а с изумлением. Такие утверждения работают с идеей вдохновения метафорически как контроль «инструмента» извне или как «подарок» «высшей силы». Тем не менее, все эти метафоры скрывают неспособность естественным образом объяснить посюсторонний феномен.
Когда врач Мельхиор Вейкард пытается все объяснить исключительно в терминах физиологии человека, возникает реальное изменение в языке. Он пишет: «Гений, человек с огромной силой воображения, должно быть, наделен более возбудимыми мозговыми волокнами, чем другие люди. Чтобы выдавать более живые и подвижные образы, эти волокна должны быстрее и проще приводиться в возбуждение»100.
Независимо от адекватности таких объяснений с точки зрения следующего столетия, секулярный дискурс вдохновения целиком обращается сегодня к способностям «естественного тела» и к их социальной демонстрации. Гений, как, например, шаман, сразу же становится объектом, исполнителем и воспроизводителем мифа. У Иммануила Канта гений – это просто человек, который имеет естественную способность удивительного проявления собственных когнитивных качеств без необходимости у кого-нибудь учиться: «Того, кто обладает этими способностями в превосходной степени, называют светлой головой; кто одарен ими в очень малой мере – тупицей (так как его всегда должны вести за собой другие); а того, кто в применении этой способности обнаруживает даже оригинальность (в силу которой он сам из себя создает то, что обычно необходимо изучить только под руководством других), называют гением»101. Гений был продуктом природы, и то, что делал он сам, также было «естественным», хотя и единичным. По этой причине результаты его трудов могла высоко оценить изощренная публика, упражняющаяся в суждениях вкуса.
Миф, поэзия и секулярная чувственность
Поэты от Блейка до Кольриджа, считающиеся «гениями» романтической традицией, экспериментировали с мифологией в собственной религиозной поэзии102. Миф рассматривался в более ранней романтической мысли как оригинальный способ схватывания духовной истины. В то время как библейские пророки и апостолы – как и шаманы «примитивного» мира – теперь стали рассматриваться как исполнители (в мифической форме) поэтической функции, современные гении могли заглянуть в себя и выразить духовную истину при помощи этого же метода. Для этого не нужна добродетель веры, все, что требовалось – это иметь искренние намерения, искренно выражать самые глубокие чувства в речи. Таким образом объясняется распространение среди неверующих Викторианской эпохи «риторики искренности»103, как ее называет Стефан Коллини. Ведь идея верности самому себе не только воспринималась как моральный долг, она еще и предполагала существование секулярного «я», суверенитет которого и необходимо демонстрировать актами искренности. Секулярность «я» заключается в том, что «я» было условием трансцендентного опыта (поэтического или религиозного), а не его продуктом.
Поэты, например Браунинг, которые боролись за сохранение собственных религиозных убеждений в мире растущего скептицизма, видели в мифических образцах способ согласовать выводы психологии и истории, или, иначе говоря, согласовать внутреннюю реальность с внешней. Роберт Лангбаум замечает, что именно Браунинг первым отметил следующее: «главной теорией XX века относительно поэзии стало признание, что она – поэзия – добивается своей цели, связывая в сознании читателя несопоставимые элементы, и что этот процесс ведет к формулировке статического паттерна на основании существующей последовательности. Понимание в XX веке часто называют „озарением“»104 – внезапным прорывом духовного в фактическое.
Мифический метод продолжал оставаться важным даже для писателей XX века, которые отвергали религиозную веру в любом виде, таких как Джеймс Джойс. Т. С. Элиот в хвалебном обзоре «Улисса» пишет, что «используя миф, манипулируя постоянными параллелями между современностью и Античностью, Джойс следует методу, которому после него должны последовать и другие… [Метод мифа] – это просто способ контролировать, упорядочивать, придавать форму и значимость необозримой панораме безрезультатности и анархии, которую представляет собой современная история. Контуры этого метода уже обрисовал Йейтс… Психология… этнология и „Золотая ветвь“ сошлись вместе, чтобы сделать возможным то, что не было возможно еще несколько лет назад. Вместо метода повествовательного изложения мы можем теперь использовать метод мифа. В этом – я в этом убежден – и состоит шаг к тому, чтобы сделать современный мир открытым для искусства, к порядку и форме»105.
Хорошо известно, что Т. С. Элиот использовал метод мифа (который он сам так называл) в собственной поэзии. Однако это использование мифа не нужно путать с мифологизацией современной истории, о которой пишет Старобинский в приведенной ранее цитате. В этих работах не существует томления по утраченному изобилию. Здесь миф открыто применяется в качестве вымышленного основания секулярных ценностей, которые ощущаются как лишенные всяческого основания106. Таким образом, миф начинает обозначать совершенно иные чувства, нежели те, которые возникают, когда миф используют Кольридж и другие романтики. (Ирония здесь в том, что именно вымышленный характер мифа, который побудил писателей эпохи, таких как Дидро, поместить «миф» вместе с «традицией», побуждает писателей начала XX века связывать мифоделание с «современностью»107.)
Важность мифа как литературной техники для придания эстетического единства раздробленности и эфемерности индивидуального опыта, с которыми в современной жизни сталкивается поэт, была отмечена множество раз108. Благодаря интересной инверсии «новые» арабские поэты, испытавшие сильное влияние модернистской европейской поэзии, обратились к древней ближневосточной мифологии, чтобы показаться подлинно современными. Таким образом они указывали на собственное желание избежать того, что они называли удушающей традицией в современном исламском мире. Наиболее знаменитым среди этих поэтов был Адонис (финикийский псевдоним наиболее значимого члена группы «ши‘р»109, провозгласивший себя атеистом и модернистом). Пользуясь средствами, которые были знакомы по западной символистской и сюрреалистической поэзии, Адонис создавал аллюзии на мифические фигуры в неловкой попытке разрушить исламские эстетические и моральные формы чувственности, атакуя то, что считалось священной традицией в угоду новому, то есть западному110. (К слову, эти мифы, должно быть, были переведены на арабский с работ современных европейских ученых, которые записывали и пересказывали их.) В этом отношении техника Адониса является в большей степени фигуральной, нежели структурной, ее основной целью является расстроить устоявшиеся чувства, а не придать чувство порядка и формы тому, у чего его нет. Такое использование мифа в современной арабской поэзии является одной из реакций на осознаваемый провал секуляризации в мусульманских обществах, ответа, неотъемлемой частью которого является осознание «Запада» как объекта для подражания.
С точки зрения Адониса, миф появляется, когда разум человека наталкивается на затруднительные вопросы относительно существования и попытки ответить на них исключительно нерационально 
 , производя таким образом соединение поэзии, истории и изумления. Свобода думать таким образом, открыто признавать, что миф – это необходимый продукт секулярного сознания, является для Адониса неотъемлемой частью современности. Как следствие, в его поэзии экзистенциальные и исторические вопросы решаются в мифических терминах. В частности, его желание освобождения арабов, которые в течение тысячелетия находятся в плену «священного языка», претворяется в жизнь через мифы разочарования, воскрешения и искупления111. Тем не менее в классическом исламском дискурсе, в отличие от современного секулярного, арабский язык Корана никогда не называется «освящающим языком»
, производя таким образом соединение поэзии, истории и изумления. Свобода думать таким образом, открыто признавать, что миф – это необходимый продукт секулярного сознания, является для Адониса неотъемлемой частью современности. Как следствие, в его поэзии экзистенциальные и исторические вопросы решаются в мифических терминах. В частности, его желание освобождения арабов, которые в течение тысячелетия находятся в плену «священного языка», претворяется в жизнь через мифы разочарования, воскрешения и искупления111. Тем не менее в классическом исламском дискурсе, в отличие от современного секулярного, арабский язык Корана никогда не называется «освящающим языком»  . Идея секулярного дискурса предполагает существование абстракции, называемой «язык», которая затем может соединиться со случайным качеством, называемым «священное» (sacredness).
. Идея секулярного дискурса предполагает существование абстракции, называемой «язык», которая затем может соединиться со случайным качеством, называемым «священное» (sacredness).
Обычно Адонис пользуется термином «миф», чтобы и почтить творческую активность  человека, и развенчать авторитет божественных текстов. Его заботит Разум, а также стремление вернуть человечеству его неотъемлемую святость
человека, и развенчать авторитет божественных текстов. Его заботит Разум, а также стремление вернуть человечеству его неотъемлемую святость  . Отзываясь на более ранний европейский (фейербаховский) дискурс, Адонис заявляет: «Здесь логика атеизма
. Отзываясь на более ранний европейский (фейербаховский) дискурс, Адонис заявляет: «Здесь логика атеизма  означает восстановление в человеке его истинной природы, к вере в нее постольку, поскольку она является человеческой… Священным
означает восстановление в человеке его истинной природы, к вере в нее постольку, поскольку она является человеческой… Священным  для атеизма является само человеческое существо, разумный человек, и нет ничего более великого, чем он. Этот атеизм заменяет откровение разумом, а Бога – человечеством»112. По иронии, атеизм, обожествляющий человека, стоит очень близко к доктрине воплощения. Идея, что существует единичная, ясная «логика атеизма», сама является продуктом современной бинарной оппозиции: веры или неверия в сверхъестественное Существо.
для атеизма является само человеческое существо, разумный человек, и нет ничего более великого, чем он. Этот атеизм заменяет откровение разумом, а Бога – человечеством»112. По иронии, атеизм, обожествляющий человека, стоит очень близко к доктрине воплощения. Идея, что существует единичная, ясная «логика атеизма», сама является продуктом современной бинарной оппозиции: веры или неверия в сверхъестественное Существо.
Он утверждает, что хотя фундаменталистская 
 форма исламской мысли, которая превалирует сегодня, сама является мифической, она представляет собой такую форму мифа, которая приобрела для верующих признаки закона, заповеди, и поэтому не кажется им мифом. Для Адониса миф множественен, даже архаичен, тогда как религиозный закон монотеистичен и тоталитарен. Выделяя бессознательную истину современного религиозного дискурса, миф, очевидно, выполняет функцию отличную от той, которую ему придали современные европейские поэты, когда они используют его для обоснования секулярного опыта113.
форма исламской мысли, которая превалирует сегодня, сама является мифической, она представляет собой такую форму мифа, которая приобрела для верующих признаки закона, заповеди, и поэтому не кажется им мифом. Для Адониса миф множественен, даже архаичен, тогда как религиозный закон монотеистичен и тоталитарен. Выделяя бессознательную истину современного религиозного дискурса, миф, очевидно, выполняет функцию отличную от той, которую ему придали современные европейские поэты, когда они используют его для обоснования секулярного опыта113.
Демократический либерализм и миф
Я начал эту главу с рассмотрения взглядов радикальных антропологов, критикующих современное либеральное государство за то, что оно притворяется светским и рациональным, хотя на самом деле значительное место в нем занимают миф и жестокость. Затем я предложил проблематизировать светское как категорию, рассматривая его исторические трансформации. Завершу я главу обращением к идеям современного либерального политического мыслителя, который утверждает, что светское либеральное государство в отношении поддерживаемых обществом добродетелей (равенство, толерантность, свобода) во многом основывается на политическом мифе о базовых нарративах, которые обеспечивают основание его политических ценностей и согласованную среду для его системы общественной и личной морали. Эта мысль возвращает нас к секуляризму как политической доктрине и его связям со «священным» и «профанным».
Маргарет Канован придерживается взгляда, что если либерализм откажется от иллюзии, что представляет партию разума, то он сможет гораздо лучше защищать собственные политические ценности перед консерваторами и радикальными критиками114. Она напоминает, что основные принципы либерализма основываются на постоянно подвергаемых сомнению предположениях относительно природы человека и общества: «Все люди созданы равными», «Каждый обладает правами человека» и т. д. Тем не менее Канован считает, что любой беспристрастный наблюдатель за условиями существования человека назовет эти утверждения затруднительными. Например, мужчины и женщины на деле не равны и не все они пользуются правами человека в нашем мире.
Канован указывает, что в XVIII веке идеи, которые затем сформировали ядро либеральной мысли, были связаны со специфической концепцией природы как базовой реальности. В следующем столетии либералы стали считать природу более реальным миром, чем социальный, это понимание давало основания для оптимизма относительно политических изменений. Терминология естественных прав обращается не просто к тому, чем мужчины (а позднее и женщины) должны обладать, но к тому, чем мужчины фактически обладают, если мы говорим о реальности человеческой природы, лежащей в основании искаженного мира, который мы видим перед собой. Тем не менее для консервативных оппонентов либерализма неравенство и несправедливость мира были прямым отражением человеческой природы, упорствующей в заблуждениях.
Почему отцы либерализма использовали эту терминологию именно таким образом? Просто потому, что для них идея «природы» служила объяснением и обоснованием порядка вещей. Настаивать на том, что очевидные социальное неравенство и ограничения являются «неестественными», – это, в сущности, породить к жизни альтернативный мир – мифический мир, – являющийся «естественным», поскольку в нем господствуют свобода и равенство. С течением времени их предположения относительно природы «человека» сделали либералов мишенью для жесткой критики. Эта слабость наиболее полно раскрылась в самом конце XIX века в связи с подъемом социологического реализма и одновременным появлением взгляда на природу как на изначально жестокую и конфликтную силу. Позднее либеральная идея естественных прав перед лицом изначально жестокой природы была возрождена не благодаря более эффективным подходам к построению теории, а ужасным событиям, которые пережила Европа из-за фашизма и сталинизма в первой половине XX века. Таким образом, либеральный миф способствовал развитию проекта прав человека, который является неотъемлемой частью современного мира и приносит с собой морализм; о последнем существует ошибочное мнение, что он чужд секуляризму как системе политической власти.
Канован признаёт, что существуют либералы-скептики, признающие хрупкость либеральных институтов и подчеркивающие важность института гражданства и необходимость сознательного следования светскому политическому порядку, в котором религия остается отделенной от государства. Для них миф может казаться менее важным. Нет сомнений в том, считает Канован, что у истоков того явления, которой мы называем либерализмом, миф о природе был вдохновляющей силой и в этом качестве позволил провести все те великие изменения. Однако сегодня либеральный политический дискурс снова открыт атакам. Она считает, что такие либеральные принципы, как универсальность прав человека, тяжело защищать перед лицом социологизированной природы, поскольку когда природу интерпретируют позитивистски в терминах статистических норм, то различные нормы поведения и переживания могут притязать на то, чтобы быть в равной степени естественными. Результат, как мы знаем, – это разрушающий релятивизм.
Канован считает, что защита либеральных принципов в современном мире не может быть эффективной, если отвлеченную аргументацию сделать более строгой, как это пытался делать Дж. Ролз. Эта мысль предвосхищает, хотя и в совершенно в другом ключе, недоверие Стюарта Хэмпшира к тому, как Ролз использовал термины «разум» и «разумный» в своем описании политического либерализма. Хэмпшир пишет следующее: «Почему пересекающийся консенсус относительно базовых либеральных ценностей считается либо необходимым, либо ожидаемым у „разумных“ людей? Ответ кроется в истории мифа о самом разуме. Платон в обсуждении справедливости в „Государстве“ обронил блестящую и занимательную идею, что душа состоит из трех частей, как и город-государство; в душе справедливого человека высшая часть – разумная – обеспечивает гармонию и стабильность, а в справедливом городе высший класс – обученные математике философы – будут следить за порядком в хорошо организованном обществе… Следствие этой мысли, если говорить простым языком, состоит в том, что желания и эмоции людей происходят от склочных и непокорных низших частей души и что они должны занимать свое место и близко не подходить к серьезной задаче самоконтроля»115. Хэмпшир утверждает, что для представления о человеческой природе, которое подкрепляло либерализм с самого начала, центральными являются именно понятия страсти и борьбы, а не разума и порядка. Таким образом, пока Хэмпшир хочет избавиться от мифа о Разуме в современной либеральной теории, Канован апеллирует к разумности мифа.
Канован считает, что либерализм можно защитить, только признав существование и опираясь на его великий миф. Она пишет: «Либерализм никогда не был описанием мира, а был требующим осуществления проектом. О „природе“ раннего либерализма или о современном „человечестве“ можно говорить как об уже существующих вещах, однако создание смыслов, которые возникают при разговоре на эти темы, все еще дело будущего. Суть мифа о либерализме – его выдуманная конструкция – в отстаивании прав человека как раз потому, что они не встроены в структуру вселенной. Следовательно, пугающая правда, скрытая либеральным мифом, состоит в том, что либеральные принципы выступают против сути природы человека и общества. Либерализм – это не попытка избавиться от нескольких случайных препятствий и позволить человечеству раскрыть его природную сущность. Он больше напоминает выращивание сада в постоянно наступающих джунглях… Но именно элемент истины в мрачных картинах общества и политики, нарисованных критиками либерализма, делает проект по осуществлению принципов либерализма еще более неотложным. Мир – это темное место, которое нуждается в искуплении светом мифа»116. Либеральный проект избавления мира от несправедливости и страдания, который Канован побуждает нас признать в качестве мифического, снова позволяет засвидетельствовать священный характер человечества и воодушевить либеральный проект. Он позволяет говорить о «политике определенности»117 и реабилитирует использование языка пророчества (вместо морального релятивизма) в политической сфере. Таким образом, то, что часто описывалось как политическое отсутствие женщин, людей, не обладающих собственностью, жителей колоний, в истории либерализма может быть описано как постепенное распространение незавершенного либерального проекта всеобщей эмансипации.
Образ, который использует Канован, чтобы представить и защитить либерализм, очень эффектен: «выращивание сада в постоянно наступающих джунглях» и «мир – это темное место, которое нуждается в искуплении светом мифа». Этот образ не только является приглашением задействовать мифологический подход, он сам уже является частью мифа. Он фиксируется (объясняет и оправдывает) на насилии, лежащем в самом сердце политического учения, которое отрицает жестокость в принципе. Этим я не хочу сказать, что насилие является «по сути загадочным, мистическим, запутанным, просто пугающим, мифическим» и «знаком существования богов», как пишет Тауссиг. Либеральное насилие, о котором говорю я (противопоставленное насилию нелиберальных режимов), является прозрачным. Это насилие самого универсализирующего разума. Чтобы создать просвещенное пространство, либерал должен постоянно атаковать тьму внешнего мира, которая угрожает поглотить это пространство118. Следовательно, не только это внешнее пространство должно быть завоевано, но и в самом саду всегда будут существовать растения для уничтожения и непослушные ветви, предназначенные на усекновение. Насилие, которое требуется для культивации просвещения, следовательно, отделяется от насилия темных джунглей. Первое должно рассматриваться как проявление закона, второе – как проявление трансгрессии. Миф гарантирует политические и правовые меры, которые силовым путем защищают священные вещи (индивидуальное сознание, собственность, свободу, опыт) от всего, что их оскверняет. Либерализм – это не только страсть к цивилизованности, как заявляют Хэмпшир и др. Он заявляет право на применение власти через угрозы и фактическое применение насилия, когда спасает мир и наказывает упорствующих в неподчинении. Во всем сказанном нет ничего фатального, как заявляли Адорно и Хоркхаймер, и нет необходимости обращаться к базовым ценностям эпохи Просвещения. Это всего лишь способ аргументации и действования некоторых либералов.
Политолог либерального толка и специалист по Ближнему Востоку Леонард Байндер приходит к такому же, как и Канован, заключению относительно необходимости насилия, но делает он это посредством ряда тезисов о возможностях и границах рационального дискурса, а не через привлечение мифа: «1. Либеральное правительство является продуктом непрекращающегося рационального дискурса. 2. Рациональный дискурс возможен даже между людьми, которые не разделяют одну культуру или одного типа массовое сознание. 3. На основании рационального дискурса может возникнуть взаимопонимание и культурное согласие, так же как может возникнуть согласие в частностях. 4. Согласие позволяет достигать стабильности в политических отношениях. 5. Рациональный стратегический выбор является основанием для улучшения условий человеческого существования через совместные действия. 6. Политический либерализм в этом смысле является невидимым. Он либо победит по всему миру, либо его придется защищать недискурсивными способами»119. То, что Канован называет либеральным мифом, я бы сказал, является частью глубинной структуры аргументации Байндера. Либеральная политика основывается на культурном консенсусе и направлена на прогресс. Она является продуктом рационального дискурса, так же как и его предпосылкой. Чтобы выжить, она должна доминировать в пока еще не идеальном мире – если не благодаря разуму, то, увы, благодаря силе.


