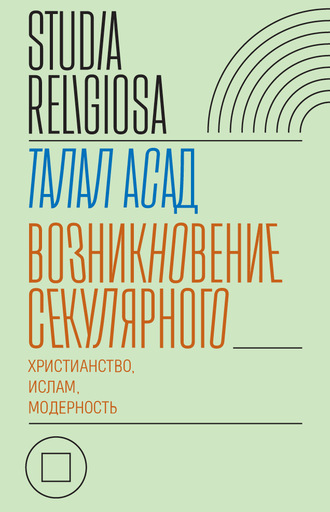
Талал Асад
Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность
III
Многие критики сегодня занимают позицию, что «модерность» (в которой секуляризм занимает центральное место) не является верифицируемым объектом14. Они утверждают, что современные общества являются гетерогенными и пересекающимися, что их специфика, происхождение, контексты и т. д. являются несопоставимыми и даже противоречащими. С моей точки зрения, в некотором смысле эти критики правы (хотя и не нужно забывать об эвристической ценности поиска необходимых связей), хотя то, с чем мы здесь имеем дело, не является простой когнитивной ошибкой. Гипотезы об объединяющем характере «модерности» сами по себе являются частью практической и политической реальности. Они направляют то, каким образом люди, принимающие эту реальность, действуют в критических ситуациях. Эти люди стремятся к «модерности» и ожидают от других (особенно от «не-Запада») того же. Этот факт не исчезает даже в том случае, если мы указываем, что «Запад» не является объединяющей общностью, что многие западные люди оспаривают секуляризм или интерпретируют его в другом ключе, что современная эпоха на Западе свидетельствует о существовании множества споров и нескольких непримиримых стремлений. Те, кто считает модерность проектом, уже об этом знают. (Один из аспектов модерного колониализма состоит в следующем: хотя Запад и предстает многоликим у себя дома, но за границей он представлен одним.)15 Важный вопрос, следовательно, состоит не в том, чтобы определить, почему идея «модерности» (или «Запада») является неверным описанием, а в том, чтобы понять, почему она стала главенствующей как политическая цель, какие практические следствия следуют из этой гегемонии и какие социальные условия ее поддерживают.
Можно сказать, что «модерность» является и не полностью согласованным, и не четко очерченным объектом и что многие ее элементы коренятся в отношениях с историей неевропейских народов. Модерность – это проект или, скорее, серия связанных проектов, которые стремятся выполнить определенные обладающие властью люди. Проект стремится к институционализации ряда (иногда конфликтующих и часто развивающихся) принципов: конституционализма, моральной автономии, демократии, прав человека, гражданского равенства, промышленности, консюмеризма, свободы рыночных отношений и секуляризма. Проект задействует быстро распространяющиеся технологии (производства, ведения войны, перемещения, развлечения, медицины), которые порождают новый опыт переживания пространства и времени, жестокости и здоровья, потребления и приобретения знаний. Идея о том, что все это создает эффект «расколдовывания» – здесь подразумевается прямой доступ к реальности, удаление от мифа, магии и священного – и это представляет собой выдающуюся особенность эпохи модерна. Эта идея, хотя и спорно, является порождением романтизма XIX века и отчасти связана с распространенной привычкой читать художественную литературу16 – быть заключенным в ней и ограниченным только ее рамками таким образом, что картины «древнего» (pre-modern) прошлого приобретают при взгляде на них заколдованные черты.
Модерные проекты не существуют вместе как интегрированная общность, но они обеспечивают характерные чувства, эстетику, мораль. Не всегда понятно, что имеют в виду критики, когда утверждают, что не существует «Запада», поскольку его современная культура имеет разнообразную генеалогию, помещающую ее вне Европы. Но если у Европы есть географически «внешняя» сторона, разве сам этот факт не предполагает идею пространства – одновременно когерентного и разрушимого, – в котором можно локализовать Запад? Мне кажется, что это не лучший способ подходить к решению вопроса. Модерность – это совсем не о том, как познавать реальность, а о том, как существовать-в-мире. Это утверждение справедливо для любой эпохи, следовательно, то, что отличает модерность как историческую эпоху, включает модерность как политико-экономический проект. В особенности меня интересует попытка сконструировать категории светского и религиозного в терминах, соответствующих модерному укладу жизни, согласно которым не-модерные народы могут проверить, насколько они соответствуют этому укладу. Дело в том, что образы «светского» и «религиозного» в модерных и модернизирующихся государствах опосредуют идентичность людей, помогают сформировать их чувства и обеспечивают переживаемый ими опыт.
Какое доказательство можно предоставить тому, что этот «модерный проект» существует? В рецензии на новое издание «Манифеста Коммунистической партии» политолог Стивен Холмс заявил, что «конец коммунизма обозначил крах последней мировой державы, формально основанной на гегелевской вере в Историю с заглавной буквы, шумным эхом которой и стал „Манифест“. Конец холодной войны означает, что сегодня нет глобальной схватки»17. Тем не менее это отнесение исторической телеологии только к побежденному коммунизму выглядит совсем неубедительным. Оставляя в стороне таких неогегельянских апологетов нового мирового порядка, как, например, Фрэнсис Фукуяма, пренебрежение Холмса попытками США по продвижению одной социальной модели не поддается объяснению. В особенности за последние пятнадцать лет анализ и рекомендации международных организаций, в которых преобладают США (Организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд, Всемирный банк), остаются удивительно однотипными независимо от страны, к которой они относятся. «Никогда еще, – замечает Серж Халими, – развитие человечества в целом не формулировалось в терминах настолько близких к американской модели и по большей части вдохновленных ею». Как отмечает Халими, эта модель не ограничена вопросами свободной торговли и частного предпринимательства, а распространяется на моральную и политическую сферы, важное место в которых занимает доктрина секуляризма18. Если этот проект не достиг финальной цели на глобальном уровне – если его результатом часто является большая нестабильность, нежели однородность, – то это совсем не потому, что обладающие возможностью принимать масштабные решения о состоянии дел в мире отвергают доктрину одинакового будущего – трансцендентная истина? – для всех стран. (То, что оппоненты этого проекта часто сами бывают движимы тоталитарными идеологиями и занимают нетолерантные позиции, без сомнения правда. Тем не менее, и это также необходимо подчеркнуть после трагедии 11 сентября 2001 года, я здесь не стремлюсь сказать, что «во всем виновата Америка», и не стремлюсь оправдать ее врагов, моя цель – указать, что в качестве единственной мировой сверхдержавы защита ее интересов и приверженность «свободе» требуют от Америки глобального вмешательства и оказания помощи по изменению местных условий в соответствии с тем, что считается универсальными ценностями. Измененные местные условия включают новые способы потребления и выражения. Являются они результатом «свободного выбора» или «навязывания» – это совсем другая проблема.)
Следовательно, мы должны рассмотреть политику национального прогресса, включая политику секуляризма, которая изливается из многомерной концепции модерности, воплощенной в «Западе» (и в особенности в Америке как лидере и страны, которая является примером наибольшего развития. Но не должны ли мы также обратиться к политике противоположных взглядов? Какой политике следует нация, которая не утверждает, что мир разделен на современный и не современный, на Запад и не-Запад? Какие практические следствия открываются или закрываются из-за понимания, что мир не выражается через значимые бинарные черты, но что он, напротив, составлен из пересекающихся, фрагментированных культур, гибридных «я», постоянно возникающих и исчезающих социальных структур? В качестве части такого рода объяснения, мне кажется, мы должны попытаться раскрыть смысл различных допущений, на которых базируется секуляризм как современная доктрина мира в мире. Именно этот процесс, благодаря которому возникали и разрушались упомянутые бинарные концепты, показывает нам, как люди проживают секулярное: как они отстаивают неотъемлемую свободу и ответственность суверенного «я» перед ограничениями, которые налагает на это «я» религиозный дискурс.
IV
Главное исходное условие данного исследования в том, что «секулярное» концептуально существует до политической доктрины «секуляризма» и что постепенно целый ряд концептов, подходов и чувств, соединившись, сформировали «секулярное». Следовательно, я начну с неполной генеалогии этого концепта, попробую поставить под вопрос его самоочевидный характер и одновременно покажу, что он символизирует нечто реальное. Мое обращение к генеалогии основывается на подходах Фуко и Ницше, хотя я и не следую им слепо. Генеалогия здесь не является альтернативой социальной истории («настоящей истории», как ее называют многие), но является одним из способов перейти от нашего настоящего к ситуациям, которые совокупно дали нам то, что мы считаем достоверным.
Но именно по этой причине, поскольку является неотъемлемой частью нашей современной жизни, осмыслить его как таковое очень непросто. Мне кажется, что наиболее адекватно это можно делать через, так сказать, вторичные презентации. Именно поэтому в главе 1 я обращаю особое внимание на понятие мифа (оно является центральным для современной идеи «околдовывания») и некоторые маски, которые оно примеряло в ходе истории, и затем в главах 2 и 3 я обращаюсь к вопросам агентности, боли и жестокости в отношении воплощения секулярного. От этого исследования секулярного я двигаюсь к рассмотрению аспектов секуляризма: концепциям человека, которые подчеркивают субъективные права (глава 4), понятию «религиозных меньшинств» в Европе и вопросу, является ли национализм по сути светским или религиозным (глава 6). В последней главе я подробно рассматриваю вопрос о трансформации религиозной власти, права и этики в колониальном Египте и аспекты секуляризации, на которые обычно не обращают внимания.
Может ли антропология каким-то образом прояснить вопросы о секуляризме? Большинству антропологов преподается, что их дисциплина, по сути, определяется методикой исследования (включенным наблюдением), применяемой на ограниченном поле, и таким образом она описывает специфику: это Клиффорд Гирц вслед за философом Гилбертом Райлом называет насыщенным описанием. Разве секуляризм не является универсальной концепцией, которую можно применять где угодно в современном мире и которая моментально способна объяснить и смягчить непредсказуемость многообразия культур?
С моей точки зрения, антропология больше, чем метод, и ее не нужно уравнивать, как это сегодня распространено, с направлением, которое придало этой дисциплине псевдонаучное представление о «полевой работе». Мэри Дуглас однажды предположила, что, хотя обычный взгляд на развитие современной антропологии связывает ее с переходом от работы кабинетных ученых к интенсивной полевой работе (с апелляцией к Боасу, Риверсу и Малиновскому), реальная история была совершенно иной. Современная антропология в ее понимании началась с Марселя Мосса, первопроходца систематических исследований культурных концепций (предисловие к книге: Mauss M. The Gift. London, 1990. P. x). Сама Дуглас была важной участницей этой традиции в антропологии. Тем не менее концептуальный анализ как таковой так же стар, как сама философия. Современную антропологию отличает сравнение интегрированных концепций (представлений) в обществах, существовавших в разных местах и в разное время. Важным в этом компаративном анализе является не происхождение (западное или не-западное), а те формы жизни, которые их связывают, силы, которые они высвобождают или блокируют. Секуляризм, как и религия, является таким концептом.
Антропология секуляризма, таким образом, должна начинаться с интереса к доктрине и практике секуляризма безотносительно того, где они возникли. Антропология могла бы задать вопрос: каким образом отношение к человеческому телу (боль, физические повреждения, разложение, смерть, физическая целостность, рост тела, сексуальное удовольствие) отличаются в различных формах жизни? На каких чувствах – слухе, зрении, осязании – это отношение основывается? Каким образом право определяет и упорядочивает подходы и доктрины на основании того, что они «истинно человеческие»? Какие дискурсивные пространства эта работа по определению и упорядочиванию открывает для грамматик «секулярного» и «религиозного»? Как все эти чувства, отношения, предположения и типы поведения сходятся вместе, чтобы поддержать или подорвать доктрину секуляризма?
Попытка сформулировать каждый вопрос во всех подробностях – это более важная задача для антропологии, чем поспешные заявления о достоинствах или недостатках секуляризма.
Секулярное
Глава 1
Как бы могла выглядеть антропология секуляризма?
Социологи, политологи и историки написали великое множество работ о секуляризме. Он является частью бурных общественных дискуссий во многих частях света, особенно на Ближнем Востоке. Навязан ли секуляризм колониализмом в качестве целой мировоззренческой системы, которая отдает предпочтение материальному перед духовным, современной культурой отчуждения и неограниченного удовольствия? Или он является необходимым элементом общего гуманизма, рациональным принципом, который выступает за подавление – или во всяком случае за ограничение – религиозного чувства, чтобы таким образом контролировать опасный источник нетерпимости и заблуждения, охраняя тем самым политическое единение, мир и прогресс?19 Здесь, очевидно, на карту поставлен вопрос о том, как секуляризм в виде политической доктрины связан с секулярным в онтологическом и эпистемологическом смыслах.
Несмотря на резкость этих споров, антропологи почти не обращали внимания на идею секулярного, хотя исследование религии было центральной темой дисциплины с XIX века. Собрание программ курсов по антропологии религии для университетов и колледжей, недавно подготовленное для Американской антропологической ассоциации20, указывает на неослабевающее внимание к темам мифа, магии, колдовства, использования галлюциногенов, ритуала как психотерапии, одержимости и табу. Вместе эти темы намекают, что «религия», объектом которой является священное, принадлежит области нерационального. Секулярное, в котором укоренены современная политика и наука, в этом сборнике не упоминается. К нему не обращаются ни в одном из известных пособий21. При этом знание о том, что религия и секулярное близко связаны, остается общеизвестным фактом как с нашей точки зрения, так и с точки зрения истории их возникновения. Любая дисциплина, которая пытается осмыслить «религию», должна также осмыслять ее иное. Антропология – дисциплина, которая пыталась понять странности неевропейского мира, – также должна более полно осмыслить, чем по сути она является, будучи одновременно и модерной, и секулярной.
Большое число антропологов начали обращаться к секуляризму, стремясь к упрощенному пониманию современных политических институтов. Там, где другие исследователи видели связанный с терпимостью светский разум, эти разоблачители находили миф и насилие. Так, Майкл Тауссиг возмущается, что веберовское понимание рационально-правовой монополии государства на насилие оказывается неспособным обратиться к «мистическим по природе, таинственным, скручивающим, просто пугающим, мифическим и тайным культурным свойствам и могуществу насилия, когда насилие как таковое становится самоцелью, что является индикатором, как об этом писал Вальтер Беньямин, существования богов». С точки зрения Тауссига, «институциональное проникновение насилия в разум не только уменьшает запросы, отбрасывая его к идеологии, маскировке и влиянию силы, но и… именно встреча разума-и-насилия в Государстве создает в секулярном и современном мире значимость, выраженную заглавной „Г“ – не только очевидное единение функций воли и разума вдохновляется таким образом, но и тончайшие и квазисвященные качества самого вдохновения… сегодня формируют основание нашего бытия как граждан мира»22. Как только эта рационально-правовая маска исчезнет, как и предлагается, современное государство предстанет совсем не светским. Для критиков основная проблема выражается в вопросе, является ли оправданной наша вера в светский характер государства или общества. Сама по себе категория секулярного остается неисследованной.
Антропологи, которые фиксируют священный характер современного государства, обычно прибегают к рационалистическому пониманию мифа, чтобы заострить собственные критические атаки. Они заявляют, что миф – это «священный дискурс», и соглашаются с антропологами XIX века, которые считали мифы выражением верований в сверхъестественный мир, священные время, существа и места, верований, которые, следовательно, находились в оппозиции к разуму. В целом слово «миф» использовалось как синоним иррационального или нерационального, для обозначения связи с традицией в современном мире, для политических фантазий и опасной идеологии. В такой манере размышления миф представляет собой противоположность светскому даже для тех, кто применяет это понятие в позитивном смысле.
Далее я буду часто обращаться к понятию мифа, но мне неинтересно развивать теорию этого понятия. На этот счет существует несколько книг23. Здесь я хочу проследить практические результаты использования этого термина в XVIII, XIX и XX веках, чтобы рассмотреть некоторые варианты возникновения светского. Слово «миф», которое современность унаследовала от Античности, питает множество знакомых оппозиций: вера и знание, разум и фантазия, история и вымысел, символ и аллегория, естественное и сверхъестественное, священное и профанное – бинарные оппозиции, пронизывающие дискурс светского, особенно в его полемическом модусе. Поскольку мне интересна изменяющаяся сеть концептов, образующая светское, я обращусь к некоторым из этих оппозиций.
Термины «секуляризм» и «приверженец секуляризма»24 появились в английском языке благодаря свободомыслящим авторам середины XIX века, чтобы избежать обвинений в «атеизме» и «безбожии», что в обществе по большинству все еще христианском фактически было созвучно обвинению в безнравственности25. Эти эпитеты имеют значение не потому, что свободомыслящие беспокоились за свою личную безопасность, а потому, что они пытались придать направление зарождающейся политике массовых социальных реформ в быстро индустриализирующемся обществе26. Существовавшие долгое время индифферентность, неверие и враждебность по отношению к христианским ритуалам и учреждениям теперь начинали связываться с проектами полной реконструкции общества средствами законодательства. Начинался процесс критического переформирования отношений между государственной законодательной системой и личными моральными принципами27. Этот сдвиг стал предпосылкой нового понимания общества как совокупности индивидов, обладающих не только субъективными правами и привилегиями и наделенных чувством морали, но также обладающих способностью выбирать собственных политических представителей. Этот сдвиг совершился единовременно в революционной Франции (исключение составили женщины и прислуга) и постепенно происходил в Англии XIX века. Повсеместное распространение суфражистского движения было, в свою очередь, связано, как показал М. Фуко, с новыми методами управления, которые основывались на новых способах классификации и оценки и новых формах субъектности. Эти принципы управления были секулярными в том смысле, что имели дело исключительно с мирскими отношениями, что в корне отличалось от средневековой концепции социального организма, который составляют христианские души, наделенные равным достоинством, существующие одновременно и в Граде Божьем, и в сотворенном Богом человеческом обществе. Совершённый в XIX веке дискурсивный переход от идеи о неизменности «человеческой природы» к пониманию человека в терминах установленной «нормальности» содействовал развитию секулярной идеи морального прогресса, определяемого и направляемого самим человеком. Коротко говоря, секуляризм как политическая доктрина и доктрина управления рождается в либеральном обществе XIX века, что понять гораздо проще, нежели идею секулярного. При этом оба понятия являются взаимообусловливающими.
Далее будет представлена не социальная история секуляризации и даже не история идеи. Мы занимаемся исследованием эпистемологических гипотез секулярного, что поможет нам более ясно увидеть, что именно может войти в антропологию секуляризма. Я утверждаю, что секулярное не является неотделимым от религиозного, которое предположительно ему предшествовало (то есть не является позднейшей формой развития священного), и не представляет просто разрыв с религиозным (то есть не является противоположностью, сущностью, которая исключает священное). Мне представляется, что светское является концепцией, которая связывает определенные типы поведения, знания и эмоциональности, существующие в современном мире. Недостаточно показать, что кажущееся необходимым на самом деле случайно, что в некоторых аспектах «секулярное» очевидно пересекается с «религиозным». Задача состоит в том, чтобы показать, как случайность соотносится с изменением грамматики концептов, то есть, как изменение концепта формирует изменения в поведении28. Моей целью в этой главе, следовательно, является не обзор исторического нарратива, а проведение серии исследований аспектов явления, называемого нами «секулярное» (светское). С моей точки зрения, секулярное не едино с точки зрения происхождения и не стабильно с точки зрения исторической идентичности, хотя и функционирует в рамках целого ряда оппозиций.
Материал я почти полностью черпаю из истории Западной Европы, ведь именно она оказала определяющее влияние на способы осмысления и претворения в жизнь доктрины секуляризма по всему модернизирующемуся миру. Я пытаюсь понять секулярное, осмыслить, как именно оно возникло, стало реальным, было сопряжено и оторвано от конкретных исторических условий.
Предлагаемый мной анализ представляет собой противоположность триумфалистской истории секулярного. Я принимаю взгляд, как до меня делали и другие, что «религиозное» и «светское» по своей сути не являются фиксированными. Тем не менее, я не считаю, что если убрать все наносное, то можно увидеть, что некоторые очевидно светские институты на самом деле являются религиозными. Напротив, я предполагаю, что сущностно религиозного просто не существует, как не существует универсальной сущности, определяющей «священный язык» или «опыт священного». Я также предполагаю, что имели место разрывы между христианской и светской жизнью, когда слова и действия были реструктурированы, а новые дискурсивные грамматики сменили старые. Мне кажется, что необходимо предпринять более подробное исследование результатов этих сдвигов. Поэтому я рассматриваю фрагменты истории дискурса, о которых часто говорится, что они являются неотъемлемой частью «религии» – или по меньшей мере близко с ней связаны, – чтобы показать, как сакральное и светское зависят друг от друга. Я коротко останавливаюсь на вопросе о том, как именно религиозный миф содействовал формированию современного исторического знания и современной поэтической эмоциональности (вскользь также показывая, как эта эмоциональность была воспринята некоторыми современными арабскими поэтами), но, с моей точки зрения, это не сделало ни историю, ни поэзию по сути «религиозными».
Сказанное верно и в отношении недавних заявлений либеральных мыслителей, для которых либерализм – это своего рода искупительный миф. Я указываю на присущую ему жестокость, но необходимо быть очень осторожным, чтобы не спутать его с искупительным мифом христианства, несмотря на их сходство. Само собой разумеется, моей целью не является ни критика, ни поддержка этого мифа. В более широком смысле, я не намерен атаковать либерализм ни как политическую систему, ни как этическую доктрину. Здесь, как и в других случаях, я только хочу избавиться от идеи, что секулярное – это маска для религии, что секулярные политические действия часто имитируют религиозные. Я завершаю кратким обзором двух концепций «секулярного», которые, мне кажется, доступны антропологии сегодня, а делаю я это, дискутируя с текстами Поля де Мана и Вальтера Беньямина.
Чтение об истоках: миф, истина и власть
В западноевропейские языки слово «миф» пришло из древнегреческого, а истории о греческих богах были парадигматическими объектами критических размышлений, когда мифология стала академической дисциплиной в раннее Новое время. По этой причине необходимо привести короткую историю термина и концепции.
Брюс Линкольн открывает книгу «Теория мифа» замечательной историей греческих терминов «миф» (μῦθος) и «логос» (λόγος). Мы читаем, что Гесиод в «Трудах и днях» связывает речь-миф с истиной (ἀλήθεια), а речь-логос с ложью и лицемерием. Речь-миф – это мощная речь, речь героев, привыкших побеждать. У Гомера, как указывает Линкольн, λόγος обычно относится к речи, целью которой является или успокоить кого-либо, или отговорить воинов от поединка.
В контексте политических собраний μῦθοι предстают в двух видах: «правильном» и «испорченном». Μῦθοι функционируют в контексте права так же, как λόγοι в контексте войны. Μῦθος у Гомера «это обозначающее власть речь-действие, совершаемое обстоятельно, обычно на публике, с полным вниманием к каждой детали»29. Оно никогда не обозначает символическую историю, которую необходимо расшифровывать, или, если уж на то пошло, ложную историю. В «Одиссее» Одиссей превозносит поэзию, утверждая, что она истинна, воздействует на эмоции слушателей, способна улаживать разногласия, и заканчивает он свой поэтический рассказ, заявляя, что он только что «изложил μῦθος»30.
Первоначально поэты приписывали собственные речи божественному вдохновению, называя их μῦθος (что современные люди называют на новый манер сверхъестественным миром), позже софисты учили, что любая речь рождается у человека (который живет в этом мире). «В то время как христианское мировоззрение совершенно отделяет Бога от мира, – пишет Ян Бреммер, – греческие боги не были трансцендентны и напрямую участвовали в природных и социальных процессах… Именно эти связи между человеческим и божественным мирами в недавнем исследовании греческого мировоззрения назывались „взаимосвязанными“ относительно нашей собственной „разделительной“ космологии»31. Однако здесь поставлено на карту гораздо больше, чем вопрос об имманентности или трансцендентности божества относительно мира природы. Само понятие «природа» внутренне трансформируется32. Представления о христианском Боге, помещенном в отдельный мир «сверхъестественного», указывают на возникновение светского пространства, которое начинает появляться в раннее Новое время. Это пространство позволяет переосмыслить «природу» в качестве поддающегося воздействию материала, детерминированного, гомогенного и подчиняющегося законам механики. Все за пределами этого пространства, следовательно, является «сверхъестественным» – местом, которое многие считают фантастическим продолжением реального мира, населенным бессмысленными событиями и воображаемыми существами33. Эта трансформация оказала значительное влияние на значение слова «миф».
Μῦθοι поэтов, как говорили софисты, не только негативно воздействуют на эмоции, но еще и лживы, поскольку говорят о богах, хотя даже в качестве лжи они могут оказывать благотворительный эффект на аудиторию. Эта мысль была развита Платоном, который придал ей новое звучание: с его точки зрения, прежде всего философы, а не поэты ответственны за моральное развитие. Атакуя поэзию, Платон изменил смысл слова «миф»: оно стало означать социально полезную ложь34.
Основатели мифологии как дисциплины в эпоху Просвещения, например Фонтенель, перенесли представления Античности на собственных богов. Как и для многих образованных людей своего времени, исследование мифа представлялось ему возможностью поразмышлять об ошибках человека. Он писал: «Хотя мы являемся несравненно более просвещенными, нежели те люди, грубый разум которых из лучших побуждений сочинил Мифы, мы легко понимаем то направление ума, которое делало Мифы настолько привлекательными. Люди поглощали Мифы, поскольку в них верили, мы поглощаем их с не меньшим удовольствием, хотя в них и не верим. Не существует лучшего доказательства того, что воображение и разум мало связаны и что вещи, относительно которых разум лишился всяких иллюзий, при этом не теряют привлекательности для воображения»35. Фонтенель проделал большую работу, придя к выводу о возможности естественного, природного объяснения «сверхъестественных» явлений во время, когда «природа» возникла как отдельная сфера опыта и исследования36.
При этом в целом в эпоху Просвещения мифы не были исключительно объектами «веры» (belief) и «рационального исследования». В качестве элементов высокой культуры в раннее Новое время в Европе они были неотъемлемой частью характерной для этой культуры эмоциональности: культивируемой способности к тонким чувствам, особенно симпатии, и способности взволноваться от трогательного в изобразительном искусстве и литературе. Стихи, картины, театр, общественные памятники и убранство частных домов богатых людей впрямую изображали или намекали на качества или приключения греческих богов, богинь, чудовищ и героев. Знание этих историй и фигур было необходимой частью образования высшего класса. Мифы позволяли писателям и художникам представлять современные события и чувства, как мы бы сказали сегодня, в виде беллетристики. Мифологический стиль в равной степени способствовал идеализации земной любви и преувеличенному восхвалению суверена, что в свою очередь способствовало появлению сатиры, стремившейся к разоблачению или удалению символического смысла. Таким образом обходными путями можно было критиковать церковные власти, не опасаясь сразу же быть обвиненным в богохульстве. В целом резкая критика мифических фигур и событий в литературе продемонстрировала, что люди предпочли разумную жизнь счастья героическому идеалу, который с течением времени воспринимался все менее и менее приемлемым в буржуазном обществе. Однако, как нам напоминает Жан Старобинский, миф был больше чем декоративным или сатирическим языком, который использовался для отдаления от героического социального идеала. Для великих трагедий и опер XVII и XVIII веков мифы предоставляли материал, на основании которого можно было исследовать человеческие страсти37.


