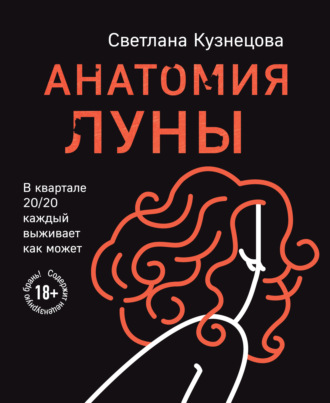
Светлана Кузнецова
Анатомия Луны
Фото автора на обложке – Яна Пилипчук

© Кузнецова С., текст, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
* * *
Всего полтора процента населения Земли рыжие. Носители рецессивного гена, которому, по данным генетики, около ста тысяч лет. Наследники неандертальцев, населявших холодную Европу черт знает когда. Две копии рецессивных аллелей на шестнадцатой хромосоме.
– Ло, ты ведешь себя так, будто у тебя красный перец в заднице, – говорила мать. Мать была не права. Медноголовые – самые робкие люди на планете. Вы полагаете, мы провоцируем вас. Но заметьте: мы проходим тихо, с пламенем своих волос и снегом своей кожи, мы молчаливо несем свои повинные головы, это вы провожаете нас взглядом и представляете черт знает что. Как мы без огня поджигаем, собравшись на всемирный шабаш рыжеволосых, двести тысяч кубометров леса?
– Эй, Ло, а ты везде рыжая? И шерстка там тоже? – кричали подростки мужского пола и роняли меня в снег, дергая за лямки школьного рюкзака. Абсолютные стопроцентные гомо сапиенсы, наполненные доминантными генами и спермой, которую некуда девать. Успокойтесь уже, ублюдки. Истинные наследники рецессивного неандертальского гена медные с головы до ног.
Теперь над потолком моей комнаты – чердак, с голубями. Они там копошатся, курлыкают «урлурлу» и порхают, будя меня по ночам. В них кишат паразиты. Прежние квартиросъемщики оставили в углу гнилые ботинки и мусор. Сметать в совок отходы чьей-то чужой жизни – стоит ли на это тратить силы… Мне хватает мусора в своей. Я просто сижу на продавленном тюфяке и смотрю смотрю в одну точку. А вечером на тюфяк ложусь и смотрю в точку на потолке. Позволяю себе бумажный стаканчик кофе по утрам и тарелку вареного риса на ужин. Все, что у меня есть, – этюдник и потертый рыжий чемодан с наклейками. Чемодан не такой рыжий, как мои волосы, он, скорее, палевый, с примесью фуксии. Сделан из шкуры облезшего французского бульдога, как шутила мать. А наклейки с мировыми достопримечательностями (похожий на пряничный домик буддийский храм Джоканг в Лхасе, Эйфелева башня и все такое прочее) остались со времен детства – тогда я еще мечтала попутешествовать по планете.
Помню, как задалась вопросом, какого цвета Эйфелева башня. И теперь с шестилетнего возраста ношу в себе это бесполезное знание – Эйфелева башня «эйфелевого» цвета. Да, официально запатентованный коричневый оттенок бронзы. Черт, меня после этого стала мучить тревога: а что, если я смешаю краски, получу этот «эйфелевый» и начну им рисовать? Вдруг тогда за мной придут и скажут: «Девочка, ты нарушила охранную силу патента, удостоверяющего исключительное право владения этим цветом, мы должны как-нибудь наказать тебя». Но я все равно смешала краски и добыла чертов «эйфелевый» – на всякий случай, втайне от всех. Я сильно тревожилась, но все равно рисовала.
Кто знает, может, мать была права и у меня в заднице и впрямь красный перец. Именно из-за него я здесь, в квартале 20/20.
В моем чемодане – опасная бритва, гаджет, чтоб узнавать новости с той стороны, пара платьев, пара трусов, пара колготок, потертые джинсы, кофта из черного мохера, фотокарточка матери и один на все случаи жизни лифчик, который, впрочем, нужен мне не для того, чтобы поддерживать груди, которых у меня почти нет, а чтобы скрывать от мужчин свои острые соски.
Из двух платьев, что были в моем чемодане, я выбрала серое, из рибаны, до лодыжек. Мне всегда казалось, что это платье приглушает мою рыжеволосость, эту мою ненамеренную, данную мне природой экзистенциальную провокационность. Быть может, воины здешних подворотен не тронут кроткую в сером, даже если она рыжая.
Я в принципе не собиралась слезать с тюфяка в течение всей грядущей зимы отчасти потому, что так и не смогла завести пальто, а отчасти потому, что… хотя черта с два я тут перед вами буду объясняться. Не собиралась, и все тут. Но в тот вечер я все же накинула черную мохеровую кофту – самую теплую вещь из своего чемодана, – надела свои единственные, тоже черные, ботинки, доставшиеся мне от девочки-подростка, какой я, подумать только, была совсем недавно (от нее, робкого и самую малость взбалмошного существа, не осталось ничего, кроме хрупкости и рыжих волос), и отправилась в чайхану. Черт, ведь кто-то из них искал натурщицу с рыжими волосами. Это давало надежду, что я все-таки не умру с голоду этой зимой. Будет бумажный стаканчик утреннего кофе, рис и, может быть, даже выпивка – изредка, по воскресеньям.
В ноябре здесь вечные потемки и слякотная мерзость. Река и залив совсем близко. От ветра можно укрыться лишь в узких переулках. А на более широких улицах ветер скидывает с низко посаженных карнизов бумажные стаканчики с остатками водки и кофе.
Медленно проезжает черный «Кадиллак» – правый передний габарит умят битой до трещины на капоте. В колонках ревет гангста-рэп. Я иду и улыбаюсь своим ботинкам, чтобы не было так страшно. Во всем этом – в простеньком и самоуверенном ритме, в промозглом ветре, пронизывающем до костей, в этих вонючих подворотнях – я чувствую биение жизни, оно все беспощадно живое. Эй, Ло, когда тебя будут убивать, как тебе вести себя? Завыть на Луну, тихонько заплакать, достать из кармана опасную бритву или просто улыбаться по-идиотски?
Квартал 20/20 – гетто для оборванцев и подонков, потенциальных завтрашних мертвецов; квартал таджиков, что держат шиномонтажку на углу Пехотного и Литейщиков, евреев, что делают в своих забегаловках шаверму из собачатины и торгуют фальшивыми документами, китайцев, что промышляют героином и держат бордели за Каналом; квартал индусов, что плечом к плечу с русскими ублюдками дерутся стенка на стенку за Тарповку с латиносами, швалью, живущей за чертой Латинского проспекта; квартал, где собрался сброд со всех концов мира, все с ножами, кастетами, топорами для рубки мяса, обрезами и дробовиками, все любители табака, выпивки, шмали и прочей наркоты любого сорта; квартал шлюх, которые дают за еду, стариков, что питаются из мусорных баков; квартал, где в ходу и деньги, и бартер, и торговля всеми пригодными для удовлетворения похоти дырами; даже блюстители порядка не суются в это гетто, пропахшее мочой, гнилью, дымом уличных костров, потом шлюх и безбашенных ублюдков, готовых умереть хоть сегодня. Только здесь понимаешь, как идеален мир за пределами квартала 20/20. Впрочем, пошел он на хер, ваш идеальный мир.
Я подхожу к доходному дому в Пехотном переулке. Косые уступы крыши, ребра эркеров, длинные окна, ржавые желоба и водосточные трубы. Этот дом цвета кровоподтека – обшарпанный модерн начала ХХ века. В его цокольный этаж мне и надо. Четыре ступеньки вниз. Тяжелая дверь. Полуподвальное помещение в клубах табачного дыма. Два окна под самым потолком. Из того окна, рядом с которым стою я, видна лишь кашица грязного снега на мостовой да кусочек серого карниза. Этот бар все называют чайханой потому, что его прежний владелец был родом из среднеазиатских полупустынь, из тех мест, где чахлые кусты, суховей да клочья колючей травы. Бывшего владельца давным-давно убили китайцы, китайцев замочили латиносы, а потом сюда пришли русские и всех поставили на место. Теперь бар и весь этот дом-кровоподтек – под русскими ублюдками. Только вот бар по-прежнему называют чайханой – по старой памяти. Здесь тусуются горькие пьяницы (ведь тут самая дешевая водка во всем квартале) и местные неприкасаемые – вечно укуренные живописцы со своими то ли натурщицами, то ли шлюхами, что в сухом остатке одно и то же. Они не любят слова «художники», здесь оно отдает безысходностью и позором. Но кто же они тогда такие? А никто. Грязь под ногами, то же, что каста неприкасаемых в Индии. Эти нищие неудачники, никому во всем мире не нужные, занимают обшарпанные комнаты на верхних этажах доходного дома в Пехотном, и у них вряд ли есть что-то за душой, кроме холстов, растворителей, красок и травки в целлофановом пакетике, они беднее церковных крыс. Взять с них нечего, и говорят, даже русские ублюдки, хозяева этого места, за отказ отдавать арендную плату избивают их сапогами по головам в щадящем режиме. Плюс в том, что в доходный дом в Пехотном переулке не суются латиносы – кровные враги русских ублюдков. Это гавань спокойствия, лунная долина Планка посреди бушующих бурь, хотя за это место когда-то велись войны, сильно, говорят, поубавившие численность местных банд.
Я наслушалась всех этих бандитских, с уклоном в культурно-исторический экскурс историй в местной булочной от стариков-старожилов, которые живут в квартале 20/20 потому, что родились здесь и им некуда деться. Эта булочная – странное место, хотя бы уже из-за того, что ею владеет китаянка. Я прихожу сюда за рисом, а старики – за половинкой булки. В полумраке слякотного ноября, в подворотне у булочной, они затягиваются окурками, подобранными возле мусорных баков, и беседуют друг с другом: «Вечер добрый, дорогой друг! Вы, я смотрю, бороду начали отращивать?» – «Да бросьте… Разве это борода? Это так, инсинуация».
В полутемной, насквозь прокуренной чайхане трындят о своем нищеброды в прожженных пеплом растянутых свитерах. Ободранные живописцы несвежи и угрюмы от вечного похмелья, как парижские докеры времен Виктора, мать его, Гюго. Но все эти голодранцы всегда находят способ раздобыть некоторое количество бабла, чтобы тут же спустить его на выпивку, табак и травку.
Тут я его и увидела – в углу, с сигаретой в зубах и кольцом в ухе. Предельно мрачный, он задумчиво макал указательный палец в лужицу на столе. Лохматый, как обычно. Резко очерченные крылья выдающегося носа. Большой лоб с буграми у висков – лоб у него всегда был похож на поверхность стиральной доски. Только вот откуда-то взялась эта спутанная черная бородища флибустьера, годами не сходившего с палубы на сушу. Да, похоже, он тут не просыхал. Он вытаскивает изо рта сигарету и опрокидывает в себя стакан. А я не отвожу глаз от него. Сколько же я не видела его? Шесть лет. Семь месяцев. Восемь дней. А это, черт возьми, как ни крути, пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь часов.
– А, рыжая… – Ольга, проходя мимо, невзначай задевает меня плечом.
Тут все знают Ольгу. Слава идет впереди нее. Брюнетка с блудливыми бедрами. И только я одна в толк не возьму, кто она здесь такая. Все, что я о ней знаю, – имя. Я в этой чайхане впервые в жизни.
Позавчера она заметила меня у кофейни на Литейщиков и подошла. Я как раз допивала свой утренний кофе из бумажного стаканчика. Ну да, Ольга – теперь буду знать. Ей чуть за тридцать. Она вечно торчит в чайхане русских ублюдков. Но понять ее статус среди странноватой местной шоблы не так-то просто. Она для них вавилонская блудница? Страстно желаемая модель с какой-то сучьей, яркой, пышно-барочной красотой? Что-то вроде стряпчего, что с материнским рвением обделывает их делишки? Все, вместе взятое? В ней есть что-то индейское – в чуть раскосых глазах, в смуглой коже, в черных, как обсидиан, и гладких, как стекло, волосах.
Ольга меня не упустила. Для нее я рыжий экземпляр, натура, которой так не хватает кому-то из чайханы. «Приходи в среду в Пехотный переулок», – сказала мне она тогда.
Кроме выпивки, табака и травы, их притягивает только одно – красота. Разумеется, ее они мыслят по-своему, ведь у них диковатое, вывернутое наизнанку воображение. Идеальные пропорции, золотое сечение Фибоначчи? Да бросьте, плевать на все это. Даже если ты прекрасен, они высмотрят в тебе изъян и утрируют его на холсте. Такие уж люди. Они любят бугристые лбы, квадраты челюстей, желваки, бурые натруженные руки бакенщиков, анатомические странности. Они могли бы счесть прекрасным вон того лопоухого сморчка, что роется в мусорном баке. Жизнь не может считаться уродством.
Теперь Ольга смотрит на меня насмешливым взглядом и кивает на флибустьера с бородой:
– Гроб искал рыжую. Улыбнись ему, дура, и месяц по крайней мере тебе будет что есть.
Покачивая бедрами, она уплывает в табачном дыму. На ней платье из густо-синего сатина, открывающее спину. А спина у нее крепкая, узкая, с глубокой ложбинкой, вся усеянная коричневыми родинками.
Они все здесь называют его мудацкой кличкой – Гроб Гавриил. Но я знаю, что он самый обычный Гаврила Гробин. С ним мы когда-то ходили на свалку оживлять мертвых чаек. Та свалка была за чертой города нашего детства. С тех пор, как мы были там в последний раз, прошла вечность. Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь часов.
Он наконец замечает мой следящий взгляд, и его густые брови сдвигаются в мрачном удивлении. Опрокидывает еще стакан. Ни тени улыбки. Всю дорогу этот хмурый взгляд – взгляд злого тролля. Значит, узнал, нет сомнений.
Я единственная рыжая во всей этой прокуренной чайхане, и я лучше всех знаю, зачем ему рыжеволосые девки. Все они для него – бледные копии меня.
Хорошо, тролль, я подожду, пока ты налакаешься и наберешься смелости и злости. Сажусь за свободный стол. Мне бы, конечно, хотелось немного выпить, но у меня нет денег на это, поэтому я смотрю в пол и просто слушаю обрывки чужих разговоров.
– Эй, Борис, исполни Толстого! – кричит кто-то за соседним столом. И на столешницу взбирается пьяный и огромный, как африканский слон, Борис, достает из ширинки своего толстого и ссыт на пол. Кто-то запускает в Бориса ботинок.
Грустный человек, с залысинами на висках и щетиной в стадии перерождения в клочкообразную бороденку, предельно изможденный (прямо как труп погибшего в Бухенвальде мальчика), глядит в точку и бормочет:
– Пятно в центре требует особенного цвета…
– Сделай синим…
– Вы слышали, индус расквасил морду латиносу у пирсов…
– А что там с африканцем?
Они все ждут какого-то африканца. Говорят, он единственный во всем квартале торгует до того улетной травой, что курильщикам сносит крышу. Говорят, он в контрах с латиносами. Тут все с ними в контрах, но африканец не так, как все, а каким-то особым, личным образом. Мне хочется уйти. Мне совсем не нужны эти пьяные разговоры, эти бесполезные знания о латиносах, африканце и шаверме из собачатины (еда, прочем, вполне годная, если привыкнуть). Я поглядываю на Гроба. Но там все безнадежно – он уставился в окно. О чем он, твою мать, только думает? Он, похоже, упился до потери связи с реальностью. Так и есть – ушел в свой мир. Там, в его гудящей башке, безлюдно. Люди, если и есть, ничего не значат: расплывчатые пятна, так, штришки. Лишь золотистые зайчики на стаканах и желтые блики уличных фонарей имеют значение. Они тут все, включая, разумеется, и его самого, сдохнут, не дожив до тридцати, от выпивки, наркоты или пневмонии. Их никто не вспомнит. Через сто лет за их мазню никто не станет выкладывать миллионы на аукционах. И все они, разумеется, это знают. Иначе их здесь не было бы.
А ко мне уже подошел грустный, с залысинами «труп мальчика из Бухенвальда», отодвинул стул и представился:
– Я Сатанов. Давай выпьем, рыжая?
Он подсел ко мне помолчать и немного потрогать мою руку. Допивает, морщится. Потом, вдруг вспомнив, что хотел меня угостить выпивкой, забирает с соседнего стола, прямо из-под носа увлеченно болтающего Бориса, использованный стакан, ставит передо мной и наливает.
– Пей, рыжая. Может быть, мы с тобой еще и покурим сегодня… если придет африканец…
– Человек из Африки? – я пытаюсь поддержать этот не интересный ни ему, ни мне разговор.
– Да какая там Африка… – он, безнадежно взмахнув рукой, вздыхает: – Федька Африканец, из русских ублюдков.
До меня наконец начинает доходить, что и африканец, и русские ублюдки – имена не нарицательные в этих местах.
Но в тот вечер никакой Федька Африканец так и не появился. И все до утра довольствовались самогоном из картофельных очисток, настоянным на полыни с фенхелем и перегнанным через самодельный дистиллятор, – таков местный вариант абсента. Горькая полынная водка дарила им чувство полета над ночной ноябрьской мостовой, хотя порой и приводила к бешеным вспышкам агрессии (ведь количество токсичного галлюциногена туйона в здешней полынной водке зашкаливало). Абсент тут пили и неразбавленным, и с толченым льдом, от которого он, изумрудно-прозрачный, мутнел.
– А знаешь, рыжая… – У Сатанова заплетается язык, он гладит меня по руке и говорит что-то нечленораздельное про времена колониальных войн в Северной Африке. – В те времена абсент давали французским солдатам для профилактики малярии. Но особенное пристрастие абсент всегда вызывал у женщин – еще бы, идиотки пили его хоть и по чуть-чуть, но не разбавляя, чтобы окуклиться мгновенно… Корсет не позволял много: дамы не желали раздувать животы. И только шлюхи хлестали, сколько хотели, ведь им платили не за сидение в корсетах, а за их отсутствие. На тебе же нет корсета, рыжая?… Ты правда такая тоненькая?
Сатанов тянется через стол, чтобы пощупать меня (он выпил слишком много и уже не может сообразить, что нужно просто подвинуть стул). Тогда Гроб наконец встает и, бросив на меня полный ненависти взгляд, идет к выходу. Но он забыл верхнюю одежду. Спотыкаясь, возвращается и напяливает на себя, не попадая в рукава, это серое нечто с капюшоном, по виду снятое с бомжа, умершего у мусорного бака.
Я тоже встаю, но Сатанов успевает схватить меня за локоть. Его изможденные пальцы цепки, как в предсмертной судороге.
– Ну куда ты, куда? Разве я тебя обидел? Я нечаянно.
Вдруг Сатанов выпускает мою руку, надсадно кашляет и отвратительно сплевывает в носовой платок. В этот момент я, сдернув со спинки стула свою кофту, убегаю и у самого выхода хватаю Гробина за рукав.
– Давай, давай! Бери себе рыжую… нужна она тебе… – проследив за нами усталым взглядом, бормочет Сатанов и роняет голову на стол.
* * *
Он отнял свою руку, едва мы вышли. Идет, пьяно спотыкаясь о выбоины тротуара, тяжело дышит и молчит. Снег растаял, под ногами лужи, и какая-то промозглая мразь сеется с неба. Я совсем замерзла в своем сером платье, поверх которого не слишком теплая мохеровая кофта. Мне надоело, бесцельно нарезая круги, шляться мимо всех этих вонючих подворотен. И я говорю:
– Так тебе нужна натурщица или нет?
Гроб вдруг останавливается. Берет меня за плечи, встряхивает с яростью. И, выплеснув злость, утыкается носом в мои волосы.
– Как же ты меня нашла? – мычит он, вот-вот готовый разрыдаться. Зачем он так налакался?
– Господи, дурак, да я не искала тебя…
– Таких случайностей не бывает.
– Бывает. Пойдем, я провожу тебя, а то ты упадешь где-нибудь и замерзнешь на хрен.
Он становится покорным. Позволяет взять себя под руку и самоуверенно показывает пальцем направление – «туда». Но уже на следующем перекрестке выясняется, что нам «не совсем туда».
Это странное занятие – угадывать дорогу по бессознательным движениям пьяного. Все равно что вести неуправляемое судно, тут нужна дьявольская интуиция. Тебя сносит с ним вместе не в ту подворотню, но ты вовремя спрямляешь путь, замечая тупик и догадываясь, что навигация дала сбой и штормовая волна захлестнула неуправляемый корабль.
Наконец мы приходим туда, откуда пришли, – к чайхане. Мы все-таки нашли единственно верное направление. Оказывается, он живет в русском доходном доме, в квартире на предпоследнем, четвертом, этаже. Преодолеваем темную парадную. Спотыкаемся о ступени. Пытаемся наблевать в углу (я одергиваю). Ругаем русских ублюдков, что экономят на освещении. «Тихо, мудак!» – толкаю я его. А он вырывается и кричит: «Ублюдки, вы все ублюдки!» Падает. Я его бужу и снова тащу по заплеванным лестничным пролетам, по коридору… Я бесконечно устала от всего этого. И почему мы все такие мудаки? Мудаки с разбитыми вдребезги жизнями. Может, даже хуже – гной человечества. Это прелестное человечество, обитающее там, за пределами квартала 20/20, давно устроило бы суд над нами, просто не может до нас, сволочей, добраться. А я надеюсь на невозможное – в самый разгар судилища, когда разгоряченное прелестное человечество потянется к ножам и веревкам, из темного угла вдруг выйдет боженька, устало посмотрит на всех, вздохнет и оправдает нас равнодушным взмахом руки.
Квартира, состоящая из одной огромной, как ангар, комнаты, кухни и туалета с душем, не заперта. Нащупываю выключатель и натыкаюсь на ведро. Грохот.
– Какого черта у тебя здесь ведро?
– Нужно, – это все, что он может промычать.
Кровати нет. Только полосатый узкий матрас на полу. Нестираная простыня сбита в кучу. Я сажусь на этот матрас, а он роняет себя рядом.
– Ты на этом трахаешься со шлюхами?
– Отстань, Ло, – мычит он.
Здесь когда-то был дубовый паркет. Но теперь добрая половина паркетин выковыряна, и в пыльных углублениях копится «труха». Он что, охотился за мышью под полом? Или разжигал из паркета костер зимой, когда в щели рассохшегося окна поддувал ветер и плохое здешнее отопление не спасало? Бессмысленно искать причины всей этой разрухи. Она просто есть, и все.
В углу – этюдник и несколько холстов на подрамниках под свежей грунтовкой. В другом – уроненный трехногий мольберт, а под ним ноутбук. Здесь все беспорядочно завалено каким-то дерьмом – тубы с краской, пластиковые бутылки с растворителями и льняным маслом, грязные тряпки в пятнах, мастихины и кисти всех сортов, часть их отмокает в банке со скипидаром – он ударился в загул и напрочь забыл их вынуть? У матраса на полу валяются карандашные эскизы и один подмалевок умброй на холсте, с проступающими нервными, торопливыми и схематичными контурами рисунка. Само собой, он нарисовал это не здесь. Он всегда любил улицу, любил торчать на холоде часами, держа то кисти, то сигарету в зубах. Я узнаю дом на этом холсте – он в соседнем переулке. Как почти все дома в квартале, он старее самого мироздания – построен в середине ХIХ века. Кажется, если верить старикам-старожилам, что тусуются в булочной, это то ли бывшая больница для туберкулезников, то ли приют для престарелых проституток и раскаявшихся гувернанток – или наоборот, какая, на хрен, разница… Стрельчатые башни, мрачная неоготика, какое-то цыганское кладбище – да, такую мразоту писать только темно-рыжей тошнотной умброй…
Под облезшей батареей валяется изогнутая стеклянная трубка.
– Что это? Там, у батареи?
– Аллонж, Ло, аллонж, – бормочет он, обхватывает меня и укладывает лохматую голову на мои колени, приготовившись так и заснуть.
– Зачем он?
– Глупая…
Я смотрю в окно. На моросящую муть и отблеск желтого света от фонаря. Сквозь серое от пыли стекло все кажется таким странным, словно смотришь на испорченный дагеротип. Скорей бы зима. Скорей бы снег. Пусть занесет эту грязную слякотную ноябрьскую сучью туманную мразь. Я буду лежать на своем тюфяке, укрывшись всем, что только найду, и тихо замерзать под завывание штормового ветра с залива.
– Эй, Ло…
– Что?
– Ло, я ведь всегда… ну, ты знаешь…
– Да, знаю.
– Но я тебя не прощу, – вздыхает он и наконец засыпает, уткнувшись бородой в мои коленки.
Я спихиваю его, а он мычит во сне. Щелкаю выключателем, лампочка под потолком гаснет. Комната так и будет всю ночь освещена желтыми отблесками фонарного света. А я сгребаю в одну кучу его рисунки, сажусь под батареей и рассматриваю их под этой мутью уличного фонаря. В вентиляционной шахте подвывает ветер. Значит, ноябрьский залив штормит.
Что же это, на хрен, такое?.. боженька, заперший какую-то заветную кладовку на краю света и потерявший ключ от нее, затосковавший без причины, вдруг захотевший кладовку открыть, ломящийся в нее с неистовой силой, разбивающий кулаки о неподдающуюся дверь… Откуда эти нервические контуры, сделанные в такой спешке, будто за спиной стая волков зимней ночью? Зачем это все? Что в той кладовке? Непророщенные атомы лучшей вселенной? Их так хочется увидеть, но ключа нет. Нет образа в натуральную величину. Только мутная, бредовая, нервная попытка его ухватить. И все это, вся эта странная жизнь, – будто срисовывание пятен с изнанки собственных закрытых век. Он еще никогда не рисовал так… Что же ты творишь, боженька? Верни наконец ключ, не будь такой мразью… Ну, пожалей нас, мудаков.
Я передумала идти к себе. Лучше буду всю ночь сидеть тут, под батареей, сморкаться в кофту и вспоминать, как мы ходили на свалку…
Три километра за город, по размытой апрельской грунтовке. Молча. Хлюпая резиновыми сапогами по грязи. На свалке горели костры, простирались километры мусора и кричали чайки. А на западных границах мусорной империи бурлило озеро сточной воды, потемневшей от частиц грунта, неорганических солей и фенолов. Однажды мы нашли у ржавой трубы мертвую чайку. Я помню, как от ветра шевелился пух на ее брюшке. Мне до рези в сердце захотелось ее оживить. В сети было все: тонны контента про то, как хакеры воруют криптовалюту, про черные дыры и астероиды, летящие в космической ночи, про далекие острова и атоллы Океании… Но не было заклинания для оживления мертвых птиц, главного не было. А Гаврила Гробин стоял с блокнотом и карандашом и рисовал труп этой чайки. Да и то верно – неподвижный труп так удобно рисовать. Долгий золотистый клюв становился деревянным, в перьях заводились личинки. А потом нашу так и не успевшую ожить чайку сожрали крысы. Осталась только горстка перьев и птичьих косточек. Ну, и тот карандашный рисунок в блокноте.
Говорят, самой извилистой на этой планете была улица Снейк-Элли в Берлингтоне, что на берегу Миссисипи в штате Айова. Там, на отрезке длиной восемьдесят метров, дорога извивалась ужом – пять разворотов на сто восемьдесят градусов и два поворота под девяносто. Но все эти виражи – божья роса по сравнению с нашей грунтовой дорогой, что брала начало на окраине городка и терялась где-то в центре свалки. Три километра самой ухабистой грунтовки в мире. Самым опасным считался отрезок пути под холмом – там дорога шла вдоль глубокого оврага, край которого мусоровоз загребал протектором. Свалка была целым городом за городской чертой. Снег здесь всегда таял мгновенно – даже после самого обильного бурана. Чернели лишь островки грязных пористых сугробов. Небоскребы мусора. Полчища кричащих чаек. Курящиеся дымки костров – они горели здесь днем и ночью вместо мусоросжигательного завода. Но мусор все наступал, все множился, все отвоевывал территорию, разрастался неприкосновенными священными курганами. И костры уже казались просто чем-то вроде местных печек для обогрева крыс. Среди всех этих мусорных кварталов петляла грунтовка – десятки километров по лабиринту свалки, липкая грязь от растаявшего снега и ямы, глубокие, точно карстовые провалы. Дорога терялась где-то в самом сердце свалки – там, где священные курганы высились, как Гималаи, и куда хода не было ни человеку, ни мусоровозу. Может быть, погребенные под тоннами древнего мусора там обитали мутировавшие слепые паразиты с хвостами глубоководных скатов, неведомая форма земной жизни.
Сегодняшний Гроб не стал бы рисовать труп. Наверное… Я ничего, совсем ничего не знаю о нем. Я жмусь к батарее, смотрю на эти захлебывающиеся контуры и слишком хорошо понимаю одно: его бесит неподвижность, он сатанеет от какого-то нетерпения. С каких пор он стал таким сумасшедшим?
* * *
Он открывает глаза и обнаруживает меня под боком, спящую. Холодок в горле. Утраченные воспоминания о вчерашнем возвращаются в гудящую башку. «Твою мать… твою чертову мать…» – Вставая и пошатываясь, Гробин идет в душ и сидит там на полу, забыв про шумящую струю зачем-то открытого крана.
– Где твои картины? Они у тебя вообще есть? – спрашиваю я, когда он возвращается.
– На чердаке, – неохотно отвечает он.
Он глубоко втягивает ноздрями воздух, в режиме усиленных раздумий сдвигает густые брови и наконец решается спросить:
– Ты какого черта здесь делаешь, Ло?
Он о вчерашнем? Все забыл напрочь, упившись? Или это он вообще о моей гребаной жизни?
– Я хочу посмотреть картины, – говорю я.
– Зачем тебе это нужно, Ло?
Ну как же, Гробин… Свалка, мертвые птицы… Помнишь? Мы возвращались в город поздним вечером. А наши матери сушили нашу одежду и упрекали нас с криками, с порозовевшими от слез глазами, как и положено уставшим от одиночества женщинам. Моя – на нашей узкой кухне, твоя – на такой же узкой кухне, только прямо над моей головой, над перекрытием потолка. Голоса наших матерей пронзали дом, как взвизги труб альтово-сопранового регистра. В этом доме можно было услышать даже дыхание спящих соседей, он всегда был полон звуков.
А наши отцы, помнишь? Они пропали куда-то еще до нашего рождения. Эти пропавшие отцы представлялись нам кем-то вроде бабочек: как-то в промозглый день они вспорхнули на подоконники наших матерей, укрылись от ветра и дождя в шторах, а едва закончился ливень, улетели опылять новые цветы. Стоял апрель. В стенах дома под обоями копошились жуки-усачи. Нам обоим было двенадцать.
Гробин мрачно вздыхает. Приподнимает дощечку паркета у матраса и достает оттуда ключ от чердака: «Пошли».
Мы взбираемся на чердак, светя фонариком. Здесь невзрачный утренний свет пробивается сквозь слуховое окно. Опилки, мусор, голубиный помет, балки над головой и паутина. Какая-то бочка, какой-то верстак, половицы искрошились в труху, и нужно беречь ноги. Весь чердак заставлен холстами. Ни хрена ж себе, какая плодотворность… Накрытые тряпьем, они стоят, прислоненные к стенам. Как потрепанные жизнью, запылившиеся после сада земных наслаждений дамы полусвета под вуалями из драных простыней. Я приподнимаю одну из вуалей. Под ней гладкий портрет женщины с чуть раскосыми индейскими глазами. Аквамарин и чернь.
Я слегка разочарована, могло быть и лучше. По крайней мере мне когда-то казалось, что он мог бы написать нечто волшебное и бесчеловечное.
Гробин криво улыбается.
– Это Ольга. Борис любит ее рисовать.
– Так это не ты… – Я испытываю облегчение, но и страх тоже. Нарастающий страх вышибает почву из-под ног. Это всего лишь сгнившая доска провалилась под моим ботинком. Но я все равно боюсь – до онемения в кончиках пальцев боюсь увидеть, что он мне покажет дальше.
– Осторожней, здесь нужно знать, куда ступать. – Берет он меня за руку и ведет. – Вот тут Сатанов. У него есть пара таких особенных картин…
Он ведет меня по этому потустороннему музею, по этой кунст-камере, полной пыли, пауков, гнилых деревянных балок, голубиного помета, чьих-то пятнистых холстов, чьих-то загубленных жизней. Да, Сатанов, похожий на погибшего в Бухенвальде изможденного мальчика, и впрямь оказывается до печенок трогательным. Я теперь не смогу забыть его аметистовые пятна и хрупких тварей, у которых вместо глазных яблок космическая чернота. Они все вылеплены из чистых линий, но с какой-то изысканной топорностью. Бедняга Сатанов, так вот ты кто – потерянная, волком воющая на Луну с тоски душа.


