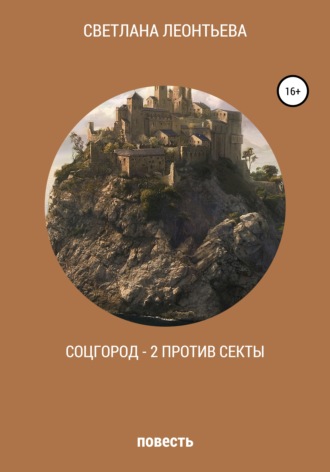
Светлана Геннадьевна Леонтьева
Соцгород – 2 против секты
Нестор поцеловал меня. Поцелуй, как музыка. Как танец. Как маленькая жизнь посреди смертей. Ибо люди смертны. Живучи. И тщеславны.
Телефон пикнул: это Нестор перевёл деньги.
– Как ты быстро! Встретил, увидел, заплатил! – улыбнулась я.
– Не ершись! Пусть будет так, как будет…тем более у меня как раз сегодня была зарплата, премия и дежурство в две смены.
Я не знала, что у Нестора есть невеста. Что они встретятся вечером. Нестор скажет Елене, что кредит не дали. Елена повернётся спиной к нему, вздохнёт и ответит: тогда сегодня секса не будет. У меня овуляция. Боюсь забеременеть. А без печати в паспорте – для меня не приемлемо. Сначала – свадьба. «Свадьбы не будет!» – ответит Нестор. «Почему? Из-за кредита?» Елена скажет: я тебе позвоню позже! Обязательно…Не звони! У тебя – овуляция. Везде овуляция. Всегда овуляция. Весь твой мир овуляция.
И все эти полгода – коту под хвост. А Елене уже тридцать шесть! И пухленькая она. И лицо круглое. И талия заросшая жирком. Тьфу…как обидно!
– На кого ты меня променял? На старуху?
– Ага! Больше было не на кого!
– А чё так?
– Я мир спасал от аварии. И сам попал в неё – всё сердце изломалось…О, эти пухлые ляжки, вожделенные груди, розовая жилка на виске…
Лена ушла. И унесла свою овуляцию в дали дальние.
Нестор постоянно думал обо мне. Каждую минуту. Он был из разряда тех мужчин, которые уходят в любовь с головой. Нестор постоянно думал о том, как я сижу, хожу, лежу. Как я рулю, как пересекаю перекрёстки. И он представлял, что у меня в это время происходит под юбкой: как расправляются и сжимаются складки кожи, как округляется пупок, как двигается живот, какое тёплое у меня тело. Это его сводило с ума. Он постоянно говорил о том, как жаждет меня, как сходит с ума. Это было похоже на наваждение. Я ему отвечала: что занимаюсь более глобальными проблемами. То есть Соцгородом. И сектой. Меня просто распирало от того, что многие мои друзья перешли на сторону врага. Что они жили, как водомерки, скользя по поверхности. Их интересовали только личные заслуги: престижи, деньги, получение грамот. И их семьи.
– А кто будет спасть весь мир?
– Полина, милая Потя, дорогая моя…что тебе до всего мира? Ты лучше определись с маленькой его толикой: со мной, семьёй, мужем. Скоро лето закончится. Моего отца выпишут из больницы, где мы будем встречаться?
– Нестор, мест полно. Гостиница, съём квартиры на пару часов, уютные кафе. Просто улицы, чтобы погулять, площади, чтобы потанцевать, река, чтобы смотреть на звёзды…мне сейчас надо закончить пару докладов, к конференции готовиться надо! И как-то надо спасать Альку.
– Это бесполезно…секты кровожадные существа…
– Ещё скажи, что у них когти, клыки!
– Сядь ко мне на колени, Потя! Просто прижмись ко мне. Я всё время думаю о том, что у тебя внутри: в сердце, душе…
– По-моему, ты думаешь только о том, что у меня под юбкой, какого цвета трусики. И что под ними…
Я послушно взобралась на колени к Нестору. Обняла его.
Он запрокинул мой затылок. Крепко стиснул шею, впился губами в губы. Он не верил, когда я Нестору говорила, что чувствую себя женщиной в возрасте. Что у меня не такая стремительная походка, что я плохо сплю, что мне снятся глупые сны. Что боюсь много не успеть. Не достичь. Не догнать.
И всё-таки, кто будет спасть весь мир?
Ночью мне опять снились плачущие женщины – Мира и Елена. Я у них отбивала их мужчин. Гладила их тела под одеялом, под шёлковой простынкой так, что тела вздыбивались, вожделенно взмывали. И я ощущала сладкую истому. Пахло клевером, каким-то дурманом. И более ничего.
Секта – не от Бога, она всегда от анти-бога. Секты бывают ново-языческие, пост модерновые, ультра передовые. Они бывают кровожадными и более-менее спокойными. Но все адепты стремятся как можно больше вовлечь в секту людей. Иногда целые государства, материки уходят с головой в секту…
Соцгород против секты!
Он един.
Он равенство, братство, любовь к ближнему, в нём – не убий, не укради, не измени, не поддайся искушению…
АЛЬКА-ГАЛКА
Явь или сон? Иду, запинаясь о кочки. Несу ребёнка. Чужое дитя. Шепчу, молю, заклинаю: «Спаси и сохрани его!»
Всё произошло внезапно. Нестор, ревнивый, скучный, вдруг ожил и предложил мне поехать, чтобы отвезти гумманитарку. Я не успела спросить, куда? Он коротко добавил: «Мне нужна твоя помощь. Собирайся. Завтра утром заеду».
Какая помощь? Чем я могу помочь?
Собираться, но как? Что взять с собой.
И завтра – это во сколько?
Словом, я согласилась. Это была пора, когда шёл сбор денег для Донбасса, продуктов, вещей. Мы все понимали: надо делать, идти и помогать.
Это звучало, как негласный девиз – иди и помогай. Чем можешь. Как можешь! Иди и не спрашивай. И это было романтично. Ревнивый Нестор стал обычным – весёлым, подвижным, всё прощающим, не обращающим внимания на взгляды мужчин в мою сторону. И это правильно! Мелкое отступило, пришло что-то большое, вселенское. Там люди: старики, женщины, дети. Ты нужен не только для сидения на диване перед телевизором. Ты – важен, ты востребован.
Я взяла неделю отпуска. Приготовила Санычу еды – полный холодильник. С собой взяла всё необходимое. Даже соль и спички. Много лапши Доширак, печенья, лекарства, бинтов, разных порошков для кишечника, анальгина запихала в рюкзак больше десяти пачек.
Я плохо разбиралась в географии, никуда не выезжала кроме Турции, Туниса, Кипра. И один раз летала на симпатичном Ил-е в Сочи. Нестор ехал целеустремлённо: это была его командировка по службе. Или точнее, от службы потому, что волонтёрно и добровольно. Он останавливался на заправках и покупал много еды, пил кофе, поэтому Воронеж мы минули на вторые сутки. Пограничник спросил шепеляво:
– Шо же вас побудило?
Нестор ответил:
– Душевный порыв…
– Шо же так? Усе в Россию, а вы наоборот?
– Так мы вернёмся обратно: отвезём необходимое – и назад.
– Все так говорят, да немногие делают! Тоже мне романтики…
– Людям нужно помогать…
– Ежжайте!
Произнёс работник на границе. И долго чесал затылок, глядя нам во след. Дорога была пыльной. И чем ближе мы подъезжали к Мариуполю, тем пыли было больше.
– Нестор, ты знаешь, куда ехать? Мы не заблудились?
Я начала тревожится. Мне показалось, что Нестор повернул куда-то правее. Тянуло гарью. Опустился туман.
– Хорошо. Давай передохнём. Косточки разомнём.
Нестор остановился у обочины. Я решила спуститься в лес.
– Ты, Полина, аккуратнее там: могут быть мины или снаряды. Их тут тоннами валяется…
– Хорошо! – я сознавала: что помогать людям надо, но Нестор, мне казалось, поступил не обдуманно. Скоропалительно. Мне было неуютно и тревожно. Но я молчала. Лишь вздыхала украдкой. Но в лесу было хорошо, птицы пели, кузнечики скворчали. Солнце едва пробивалось из-за туч. Сизые дымы обволакивали пространство. Но я шла и шла. Словно хотела отдалиться подальше от реальности.
И вдруг позади, на дороге, где остался Нестор, раздались голоса. Затем что-то рвануло. И я подумала: война! Вот она. У меня заколотилось сердце. Я присела за деревом. Бедный, бедный Нестор – романтик хренов, неосторожный! Ну, точно, не туда свернул. Наверняка здесь нацики! Я плотнее прижалась к стволу дерева: что это вяз, дуб? Всё равно. Снова рвануло на дороге, но уже более осмысленно. Мне показалось, что остановилось что-то тяжелое, нет, не машина, а автобус или тягач. Раздались оглушительные крики. Треск. Вой. Машина Нестора подпрыгнула и загорелась. Рядом перевернулся автобус с беженцами. «Видимо, нарвались на врагов!» – подумала я.
Беженцы стали заложниками…а раненые остались на дороге.
– Но что же с Нестором? Где он?
Я острожно начала возвращаться к дороге. Приседая и прячась. Но выйти не решилась, легла в ямину, в сухую траву, накрылась веткой, обстрелянного дерева и так пролежала до вечера.
Машина Нестора вся выгорела вместе с нашими вещами и документами. На земле лежали тела убитых. Их вещи. Сумки, авоськи, корзины, чемоданы. Нацики уехали. Живых не было никого, кроме мальчика, которому было лет пять. Он тяжело дышал. Но не плакал. А лишь скулил. Я подошла к нему, лежащему возле рва. И сразу поняла: ребёнок не ранен, а просто ушиблен сильно. И напуган. Я осмотрела его, ощупала, перевернув на бок. На затылке шишка, скорее всего, сотрясение мозга. Руки, ноги целы.
– Нестор! – выкрикнула я. – Ты где?
И поняла: звать глупо. Скорее всего, его вместе с живыми захватили в плен.
– Где твоя мама? – спросила я ребёнка. Он не ответил, а лишь заскулили ещё тревожнее.
– Тихо! Тихо! – приказала я, оттаскивая ребёнка подальше от края рва.
Я открыла сумочку мёртвой женщины: там были документы, паспорт, какие-то салфетки и прочие мелочи. Затем подтащила к себе валяющийся рюкзак: в нём были тёплые вещи ребёнка, свитера, термос с чаем. Пакет с бутербродами. И таблетки, таблетки. Марля. Тряпки.
Ребёнка пришлось нести на руках. Он прильнул ко мне, трясясь и воя. Маленький, беззащитный. На его ладошке было написано: Костров Коля. Видимо, мать его опасаясь смерти, сделал надпись фломастером синего цвета. «Очень приятно, а я тётя Потя!» – усмехнулась я, неся Коленьку через лес. Темнело. Становилось непроглядно. И я поняла: надо заночевать где-нибудь в частном секторе, в крайнем домике. Потому, что на наше счастье показалась окраина города. Или деревня. Или село. Мне было всё равно…
До ограды было метров двести.
Двести…
Груз двести.
Шагов двести.
Травинок двести.
Меня качало от усталости. Коленька крепко заснул… И тут я увидела, что в плетёной люльке, на дереве сидит снайпер спиной ко мне и целится из автомата. Или ружья. Я не разбиралась в оружии.
– Ага, гад, по людям стреляет! Не даёт им выйти!
Я живенько присела на корточки. Подстелила куртку и положила на неё ребёнка. Стала наблюдать. Прошло минут двадцать или больше, а может меньше и вообще не двадцать, но снайпер вылез из люльки. Потянулся. Автомат прислонил к дереву и пошёл вперёд. Не знаю, может по нужде или так прогуляться перед сном. Но я, как ненормальная вскочила на ноги, рванулась вперёд, схватила автомат и нажала на курок. Точнее, всё было медленнее: я присмотрелась, куда пошёл снайпер, посчитала, сколько он сделал шагов. Подумала: сейчас иди никогда. Точнее высчитала свою скорость бега, и поняла – успею схватить в руки автомат. И успею выстрелить. Либо мы с Коленкой – либо он, это гад!
Вообще, я всего два раза стреляла в тире. И один раз в техникуме при сдаче норм ГТО, раньше были такие сказочные соревнования! Стреляла я хреново. Но помнила, как надо нажимать на курок, что бывает сила отдачи и синяки на плече. И ещё помнила странное выражение: калашом от живота. Мне такие противные вещи писал на фейсбуке русофоб сбежавший в Иллинойс.
– На, сука! Получай! За маму Коленьки! За похищенного Нестора. За русских! И против твоей жалкой гнусной русофобии хрен эмигрантский!
Я услышала вскрик снайпера, укокошившего тысячи русских. Его гневное: откiда ты, дура, взялась! И увидела, как снайпер рухнул, обливаясь кровью! Ужас. Ужас! Пальцы сами нажимали на курок. И я кричала: калашом от живота! Тра-та-та!
Я лупила до тех пор, пока не кончились патроны. Ты сам пришёл убивать меня! Моими руками убивать меня! Я тебя не звала!
Коленька даже не проснулся. Может, я не орала, как оглашенная? И, может, пули летели неслышно? Может, я вообще не стреляла? И никакого снайпера не было в сетчатой люльке на дереве? И разве в люльке удобно? Внизу под деревом стояла алюминиевая кружка с чаем. И валялись галеты. Немецкие со вкусом сосисок. Я их съела. И даже чай выпила. Механически. Словно я робот. Словно я «руси партизанш»!
Коленьку я тащила с трудом. У меня руки онемели. Ноги были, как ватные, не мои, а чьи-то чужие деревянные, дубовые…
Крайний дом оказался не тронутым, даже стёкла не разбиты. И двери легко открывались. И кровать с одеялом, с простынями и подушками. Можно было раздеться до белья. Помыться в ванной, точнее ополоснуться из ведра: лицо, шею, руки. Двери в ванную красивые с цветными стёклышками… Война ушла далеко. Её не стало. Видимо, на этой окраине был последний снайпер, который держал в страхе окраину. А теперь он валятся в земляничной траве и его скоро раздерут голодные псы города.
Нацизм – это кровавая секта.
Жуткая, страшная.
Люди, оболваненные призывами секты, одурманенные её парами, её лекарствами, борщевичной похлебкой амфетамина, вы же такие же русские. Малороссы, окраинные русины, вы же наши братья, обманутые, объегоренные, обмайданенные, еврофильные, уставшие от мизерных зарплат, от правительств, от горя…
За что воевали? За еду? За деньги?
Где жизни ваши, ибо тела ваши врыты в тугую и плакучую землю великой Руси.
Наравне с Коленкой я вывезла ещё несколько детей, пару котов и даже попугайчика в клетке. На утро нас с Коленькой нашли чеченцы и позвали на эвакуацию. При мне были чужие документы, вещи, чужой ребёнок. Но никто ничего не спрашивал, люди были подавлены свалившимся на них горем, они были молчаливы. Чужое горе не давало мне раскрыть рта. Я только слышала: Мамаша с дитём езжайте, мамаша с дитём садитесь. Уймите своих кошек в клетке, держите попугая. Пейте чай. Он с малиной. Дети были все испуганные.
Коленька меня тоже называл мамашей.
Нам – налево, мамаша!
Дай попить, мамаша!
Ну, мамаша, так мамаша. Приедем на место, разберёмся. Со мной было ещё четверо деток, две девочки и два мальчика. Один совсем грудной. Я его прижимала к себе, кормила смесью молочной и обтирала салфеткой его розовые складочки, перепелёнывая на заднем сидении машины.
– Мамаша, ведите детей в отдельную комнату!
Я отвела.
– Мамаша, где документы на детей?
Я протянула в окошечко все пять свидетельств о рождении.
Вообще, странное название – свидетельство. Неважно чего – смерти, рождения. То есть просто свидетельство. Свидетель кто? Кто свидетель? Мы свидетели! Свиделись на этой земле.
– Мамаша, вы куда? – спросила меня женщина, когда я вышла на крыльцо, оставив детей на попечение соседки по заселению.
– Я просто волонтёр! Отвезла. Доставила! У меня дома – Саныч слепой и голодный! Поеду первым поездом!
Ответила я и направилась на вокзал.
– Мамаша, сейчас транспорт будет до Москвы. Поедут наши – они пустые после выгрузки гумманитарки. Может, вы с ними сядете?
– Сяду!
Я уехала, не попрощавшись с Коленькой. Хотя понимала: малыш будет плакать и тосковать.
Но я понимала, что если отважусь на следующий рейс волонтёрить, то обязательно встречусь с Коленкой.
Мне просто хотелось стереть горькие воспоминания. Меня корёжило и крутило. Это тебе не стишки писать и грамотки с премиями пестовать! Это тебе не докладики про суть философии и её смыслы выколдовывать. Это тебе не над конференциями волховать!
Алька- галка прыгала возле окна и долбила в дверь грузовика пока мы стояли на перегоне. Я понимала, что это привет от всех сект. Чтоб им пусто было!
Через три дня я была дома. Саныч как малое дитя плакал от беспомощности.
Мамаша, мамаша, мамаша!
Вот и всё моё название. И цель. И нужность. Более ничего я не могла дать этому миру, кроме ухода за больными, сирыми, обездоленными и брошенными людьми.
СОЦГОРОД 2030
В центре стела и вечный огонь, он не меркнет, он сходит каждый год на день победы. От него зажигаются маленькие свечки. И огнь немеркнущий в наших сердцах. Вкруг на аллее возрождённый памятник Горькому. Ему нет смысла рвать арматуру и идти к морю, доказывая, что живой, помнящий, любящий, хотя гипсовый. Либералы притихли, если не сказать, что совсем смолкли, хотя ранее доказывали, что Горький – списал у немецкого поэта «Буревестника». И вот слышится скрежет космических пружин, каменные кони, на которых сидел маршал Жуков, сами встраиваются на гранитные постаменты. Это орловские рысаки, это верховые лошади, это космические рысистые упряжные кони. Соцгород везде, как справедливость, честь, братство, равенство. Он выстроил свой град на холме. Он очистился от лжи. Сербия отвоевала свои исторические земли, теперь в Косово огромный, медный Караджич на холме, выше памятника Свободы, что с венцом колючим на голове. Караджич взмыл ладонью в небо, рассказывая, как высока стела добровольцев и защитников славного гордого Донбасса. Караджич видит далеко, ибо его глаза открыты и созерцают, как никогда. Ибо предупреждал, объяснял. Голуби летят вдоль улиц имени поэтов-патриотов, воспевающих Соцгород, приносящих к подножию скалы свои цветы, читающие стихи о мире, свободе, братстве. Поэты ездят в составе делегаций, чтобы поклониться памятнику Муаммару Каддафи в объединившейся Ливии, где снова процветает справедливость, и трёхъярусный Триполи, как сады Семирамиды весь в птенячьих желтых пушистых маках. Девушки в белых накидках приходят к памятнику Саддама Хусейна, зверски замученного и изнасилованного бандитами. В Багдаде теперь музей. Тюрьмы ликвидированы. Эти страшные Гуантанамо, Абу-Грейб – теперь как Освенцим под открытым небом. Милая экскурсовод-женщина рассказывает, что пришли наши и освободили узников. Пытки прекратились. Переписывание и изымание над историей канули в прошлое. История пишется чистыми руками. Пишущий даёт специальную клятву – либо правда, либо смерть. Это называется справедливая советизация. Все пятнадцать республик снова объединились. Суровые пограничники, вооружённые специальными рациями, чипами, внедрёнными в их тела, обходят пределы гарнизона. Анекдоты про Чапаева запрещены. Памятники Суворову, Невскому, Петру Первому повсюду. И главное снова Сталин в меди и бронзе. Ибо пересчитали узников гулага, вятлага, и оказалось, что цифры завышены, что не было столько политзаключенных, были бандиты, воры, грабители, а по 58 статьей не более 2-3 тысяч человек. В Италии – солнечной, как кабачковая икра теперь многие улицы названы в честь Александра Захарченко, В. Доги и других смелых воинов последней освободительной от нацистов войны. Нато ликвидировано навеки. Даже Троянский конь на узде, привязан к специальному железному стержню, вбитому в левое полушарие планеты. Во Вьетнаме огромная памятная доска, где указано, кто бомбил, зачем и почему. Это теперь стена плача. Венесуэла, Куба, Парагвай создали единый блок противодействия государству-террористов. В Америке теперь подлинная свобода коммунистов. Русофобия тоже побеждена раз и навсегда – ибо Европа, как класс исчезла, теперь это Западная область Соцгорода и называется она Московией, ибо отсюда начинается тропа к Граду на Холме. Через Мариуполь, Харьков, Киев. И выпрямляется во весь свой контур ось земная, свисшая, и Атлантиды ввысь скользят, как затонувшие Титаники. И восхищаются, как встарь, кто Васнецовым, а кто Шишкиным, и рухнувшие в пыль и гарь встают на постаменты памятники.
Ну, здравствуй, друг из дальних дней,
двух тысяча сто девятнадцатый
сегодня год! И свет очей, лун отсвет, марсов отсвет кварцевый! И вдаль мустанговый полёт, и небо, и закаты с вишнями. Ну, здравствуй, я пишу тебе все эти строки километрами! Георгий Жуков вновь встаёт, Ватутин в Киеве возвышенно, сцепляет камень рёбра. Рот орёт чего-то хлёсткое. Совета, мол, хотите? Будет вам совет. И по хребту и вдоль, где кости срастается. И ввысь растёт там, где звезда когтит просторы.
В печёнках боль. Но ничего. Зато на место – болт и гвозди,
на место – море.
Днепр. Канал. На место – горы. Мой Ленин, как большой ребёнок. Как вечно юное дитя. Его крошили тоже в клочья. Его рубили на дрова. Стой, суки! Стой! Бунт беспощаден. Потоп – возмездье. Шум дождя. Пожар. Торнадо. Войны, грады. Нас хоронили в ямах, рвах.
Нас долго били, не убили. Обманывали. Долгострой, то ваучер, кредиты, жилы нам вынимали. Камень, вой!
Об этом. Рваной арматурой, где сердце выдранное. Дыр не сосчитать. Не пуля-дура, убьёт дурак весь этот мир. Какой-нибудь богач, как Сорос, маньяк, безумец, что с деньгами.
Ну, здравствуй, кто не вымер! Голос я твой ловлю. Я вмуровалась в столетье прошлое. А ты же читаешь стих мой, отвечая, мне здравствуй, здравствуй…капля, малость травой я стала, иван-чаем!
Сорос давно развенчан и экспроприирован. Его капитал раздали бедным и нуждающимся. Никаких олигархов! Они добровольно сдают лишние деньги, сверхприбыли в Народный банк Соцгорода. Издан Указ Высшего совета о том, чтобы вернуть на Лубянку каменное изваяние Феликса Эдмундовича Дзержинского, его великанская фигура выше, нежели рядом стоящая аккуратная фигура Ивану III и брызжущий весёлой водой фонтан Витали. Железные сапоги Феликса гремят по ночам, и власть слышит этот звон небесный и крестится на Собор. Более никаких обсуждений! Никаких баб! Звонят звонницы под утро, и тогда просыпает Москва под звуки песен на стихи Корнилова. Того самого, кто Борис! Хватит юлить и притворяться! Соцгород живуч, как никогда. В трудные минуты он уходит под землю. В счастливые минуты просыпается и восстаёт. И виден тот самый Град на Холме, даже слышен тонкий перезвон колокольцев в церковки Справедливости. И сама мать Мария обходит по утрам всю Московию с запада до востока, накрывает её своим пуховым одеялом, пряча от недругов. Вдоль облаков мчатся лидийские священные колесницы, рдеют знамёна Будённого. Прочь Беловежский сговор. Пойди вон! Ельцинский Центр ликвидирован, теперь это Дворец Поэтов. Хватит пакостить в литературе! Какие такие книги за свой счёт? Только за счёт Высшего совета Соцгорода. Ибо грядёт Пасха: Пасха – это град на холме. Это матушка, ждущая там возле врат. Она руки распростерла, ждёт-пождёт. А ворота резные, кружевные, золотом проблёскивают, серебром призывают, снежинками, дождинками. Они живые, эластичные, теплые, пуховые, как платочки вязаные! Накидывай на плечи, грейся.
Пасха – это любовь в чистом виде.
Высочайшая любовь.
Возлюби ближнего, как самого себя. Как матушку, как старицу, как ближнего и родного человека. Пасха – это сестра-София, это единение. Это изюм.
Катаешь яичко да приговариваешь – солнце моё ясное, рыжее, лохматое, любимое, человеческое.
И небо человеческое. И лес человеческий. И град на холме – для людей. И вера в него чудная. Пасха – это справедливость. И родина.
А родина никому, ничего не должна. Как может быть должен кому-то град на холме, матушка? Как может быть должны могилы родных? Душа? Сердце?
Поэтому не требуй от родины ничего: ни денег, ни богатства, ни дома, ни машины, ни злата. Ни пенсий, ни пособий.
Как можно что-то требовать от Пасхи?
Бескорыстность – это высшее блаженство.
Поэзия – это тоже Пасха. И за поэзию ничего не проси. И за книгу. И за роман о граде на холме. Ибо вся – поэзия это град на холме. Талант – бесценен, он Пасха.
Не понимаю прелести в премиях. Всё, что мне надо, могу заработать сама.
Ибо известно людям – о всех талантах и дарах, как и о бездарности.
Сколько не доказывай, что ты талантлив, а люди не верят.
Ибо праздник доказывать не надо. И Пасху не надо. И град на холме виден без доказательств. Но вспомним предысторию, она состоит из страстной недели. Такая махонькая – на ладони умещается, и вдруг оказывается – это космос во всех проявлениях светлой и тёмной стороной. Космос на ладони. Страшная череда предательств: предал самый близкий и самый родной человек. За тридцать сребреников. Цена предательства – тридцать. И сколько ни считай сребреники – их всегда одно и тоже количество. Космогенез тридцати. Архетип. И Пётр отрёкся трижды. Тоже любимый и лучший ученик. И лишь Блудница – никчёмная, падшая, нижайшая в грехах, ненужная, отринутая, отвергнутая, загнанная в угол – она помазала ноги Спасителя духмяным маслом. Она отёрла их своими власами, она окутала теплом. Она пришла на помощь. Стань этой Блудницей! Пади низко! Во грецах своих – во пороках своих, укради, что можешь, измени всем, кого любила, взойди во все постели, что расстелены в кружевах. Но в трудный час – в час Бога – душа живящая тебя позовёт в град на холме, и ты с кружочком масла и кисточкой из бельчачих пушистых комочков сделаешь то, что ни сделал никто. И взойди ко гробу Господню – и возыскуйся, возопи, ибо ты Магдалина Высочайшая! Загадка космогинеза – ты сам космос и топос. И тень его, и вопль его. И сорвутся маски с лиц всех, и выйдет наружу правь наискомическая!
И сойдёт Господь наш в ад ко грешникам. По ступенькам сердца твоего!
А ещё до страстной субботы – пятница. Глубочайшая, как весь век. И четверг чистый, что два века. Ибо моются половицы водой талой. И живы брызги этих вод, в нашем веке оказавшись. В наших днях. В нашей горнице.
И лицо омой.
И волосы расчеши.
И грёзы светлые, тихие войдут в сердце твоё.
Аки помолимся, друзи!
Чтоб сошед огнь благодатный.
И каждый раз сходит он. И летит в поднебье. Стань его искрой – малой, ковчеговой, спасись им. И других спасёшь.
О, на коленях! О, низко склонившись! О, припади к земле самой – к мрамору пола во церкви! Молись! О мире! Об огне мира! И сам сгори в этом огне, стань пеплом и воскричи шёпотом и прошепчи криком!
Страстная Седмица – восходит в Пасху, в самую её маковку, в его космос. Ибо попасть в космос это великое дело. Обычно священники – люди суровые. В хорошем качестве. Они учителя. Поэтому нужна дисциплина и послушание. Преклонение, преданность, вера.
Даже маленькая, с каплю, но вера.
Диковинная, раболепная – но до слепоты.
Только чтобы созерцать своё внутренним оком. Обводить взглядом. Цедить между рёбер. И прощать всех, кто не прощаем.
Птиц, зверей, тварей разных, гадов, простить тех, кто убил тебя. И возлюбить их так, что больно.
И покаяться самому. Просто покаяться. Без слов, без мыслей, без вопросов: за что? Покаяться ни за что-то, а потому что. Даже, если не крал, но покаяться. Не обманывал, но покаяться. За любовь покаяться. Ибо так любил, что мучал этого человека.
И тогда праздник будет. Ибо изначально воскрешение – это солнце. Яркое. Ясное.
Русский человек всегда – путь ко граду на холме. Он может блуждать. Может за всю жизнь взобраться лишь на пару метров из тысячи километров. Но в седмицу преодолеть всю дистанцию.
И войти в град на холме. И преклонить колени.
Но в минуты годин грозных выходят люди суровые и вычищают всю нечисть, народившуюся, что поганки во лесах, всех петлюровцев, бандеровцев, шухевичей, наркоманов-азовцев. Блогерство – это высший акт, а не каждому можно. И то для высших целей. В Одессе огромный мемориал-храм возле Дома профсоюзов на Куликовом поле, в Харькове вся площадь в цветах, в Мариуполе выкована огромная башня – в память о невинно погибших мирных жителях – они были тем самым щитом, прикрывающим нас. И наш Соцгород и наш Град на Холме.
Лишь Христос может простить Иуду. Более никто. Ибо трёхлетняя девочка плачет под плитой бункера в Киеве. И солдат Соцгорода спасет её. Это реальный человек. Он проживёт 99 лет. Скромно. Достойно. Как все соцгорцы.
И открываются ставенки раз в год, как раз в Пасху и видим мы огромный крест. И видим победившего смерть. И отправляется он снова и снова в своё земное путешествие.
И это как раз и есть та самая справедливость!
АЛЬКА, ВЕРНИСЬ!
Секты будут запрещены. Насовсем. От слова – нельзя! От слова – хватит засорять мозги. От слова – нас не переформатируешь! Мы православные! И это восторг!
Но бывают такие, как Алька – несчастные, брошенные мужьями, одинокие, они попадаются в лапы сект.
Поэтому в Соцгороде есть специальный центр для людей такого рода.
Нестор! Неужели ты не вернёшься из плена? Губастенький мой, субтильный? Позвавший меня на край света, чтобы я спасла Коленьку, а сам пропавший куда-то. Невесть в какие места попавший!
Иногда мне кажется – это сон. Что ничего такого не было. Конечно, Коленька был: я до сих пор ощущаю тяжесть на своих руках, лишь только приподнимаю локти от стола или подлокотников кресла. Но вот снайпер, которому я выстрелила в руки, что с ним на самом деле? Может, он перевязал свои отбитые кисти, раздробленные кости и смылся куда подальше? По дороге ему оказали помощь наивные дончане, он перебрался в лагерь для беженцев, ибо рук нет – никто не проверит, снайпер он или нет? И наколки отвались вместе с отстрелянными предплечьями. Выжил гад!
А вот Нестор наверняка попал в плен. И его держал где-нибудь в застенках.
Саныч! Ты что молчишь?
Бедный, спившийся Саныч!
Инсульт – вещь тяжёлая, печень – если она пропитая, имеет багровый оттенок. Наши внутренности – бедные, тяжеловесные, пахнущие кровью. После жилье обрастает тоже запахами человека: его старостью, немощью, утлыми рубахами, разбросанными по дому, стоптанными тапочками, мозолями, болячками…
Секта – это страшное, это отстранённое от дома и его запахов, этих несмолкаемых мшистых колокольчиков обоняния. Секта – это плен, тлен, гниение, подвал, темница, отторжение. Уход из дома. Какими бы светлыми не были обещания зазывал, какие бы пучки солнца не обещались, какие бы трели не пелись, какие бы звёзды не манили – но секта требует отречения человека от всего ему привычного. И говорит – теперь твой дом эта секта, теперь твои мать-отец – секта, весь спектр чувств – секта, отдай ей себя, свою жизнь и свои деньги. И Алька отдала.
И Нестора заставили отдать.
Точнее его телесную оболочку, документы, деньги, которые были у него в кармане куртки, продукты питания, гуманитарную помощь, которую он вёз детям.
И оставили умирать Нестора в яме. Они сказали:
– Не будем тратить патроны на этого субтильного. Сам умрёт. Из ямы не выбраться. Со связанными руками и ногами. С заткнутым кляпом ртом.
Их было трое.
Не надо говорить – ой, этих сектантов, неоязычников ввели в заблуждение. Их вынудили быть жестокими. Они столько убили людей! Пожалейте их! Это ложь! Эти трое могли бы не связывать руки Нестору. Не плести узлы на лодыжках. Не заталкивать вонючую тряпку в рот.
Нестор долго мычал. Стонал. Никто не откликался. Руки! Как развязать, отпороть ленту? Ладони затекли, плечо было вывернуто, от боли хотелось выть и орать. Этими руками Нестор гладил любимую. Прижимал её к себе. Ласкал. А теперь – эти руки посиневшие затёкшие, бессильные. На краю ямы свисли ягоды – красные сочные. Нестор руками дотянулся и прижался к ягодам, их сок впитался в клейкую ленту. Растёкся влажно и вожделенно по клеёнчатой поверхности. От боли в плече Нестор снова отключился. Он очнулся от какого-то писка, от покусывания его ладоней, как раз в месте повязки. Нестор замер – кто это? Мыши? Бурундуки, прибежавшие на вкус ягод, которыми пропитался тугой узел повязки? Всё равно, лишь бы узел ослаб. О, кто вы, крысы мои?
…Любимый мой! Желанный мой! Неожиданный! Помнишь, помнишь, как ты стоял, прижавшись ко мне? Что ты говорил? Какие такие флюиды и флюидки, флюидищи мелькали между нами? Откуда ты, с какого марса? Твоя чёрная кожаная куртка, твоя чёрная большая иномарка. Ты что-то говорил, что-то произносил, прижал меня к себе, чмокнул в щёку. Ах, ты соблазнитель, искуситель мой! Малыш!







