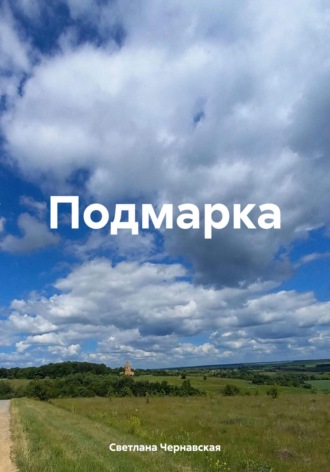
Светлана Чернавская
Подмарка
Тёня
Тетя Наташа намного старше моей мамы. Она, кажется, и воспринимала сестру как дочь, а для меня была подружкой. Своих детей не имела, и наверное, поэтому к племяннице относилась с такой теплотой и нежностью. Ей и 45 не исполнилось, когда я начала себя осознавать, а казалась пожилой. Подхалимничая, называла ее «тетя милая», если обижалась – теткой, а повседневное имя у нее было Тёня. Я ее обожала… Мама на работе, бабушка – вся в заботах по хозяйству, старенькая уже, да и слышала плохо. А Тёня со мной и на речку, и по грибы, и по ягоды, но только до ближнего оврага – ноги ее сильно беспокоили. Усаживалась повыше, чтоб я была в поле зрения, и тоже собирала ягоду, переползая с места на место.
Бабушка мне компанию составила, помнится, один раз, нас еще пчелы тогда напугали. Гул издалека услышала я, бабуля хоть и глуховата, но реакция у нее оказалась на высоте: подхватив меня под мышку, пулей метнулась в заросшую травой ямку. Там, выставив в небо зады, мы и переждали полет над нами черной тучи: чей-то рой из Троицкого улетел искать свежие впечатления. Что интересно – в то же укрытие нырнул и наш пес, вспомнил, поди, как дяди-Пашины пчелы покусали: его в нос, морда распухла, как у мопса, а меня между глаз… Рой приземлился на краю овражка за ручьем – а ну как бы на нас?! До смерти бы зажиляли…
Теть Наташа книжки мне читала, байки всякие рассказывала. Это уже зимой: на улице мороз, ветер колючий, щельница, так бабушка называла февральскую поземку, задувающую во все щели, – а на печке Ташкент, она огромная, с грубкой, то есть с плитой, на которой готовили еду, треть комнаты, наверное, занимала; просторная лежанка находилась высоко, под самым потолком, не лежанка, а целая комната, и вчетвером можно спать, четверо бабушкиных детей там и выросли. На кирпичи настелены домотканые половики, старая тощая перина, покрывала. Залезали туда по сундуку, подставив к нему скамеечку. Тёне, конечно, такая гимнастика удавалась с трудом, но лишь печка и спасала от суставных болей. Да и мы печкой от простуды лечились: выпьешь чаю с малиной и липой – и на горячие кирпичи… Внизу, в запечном закутке, стояла бабушкина кровать. Долгими зимними вечерами мы втроем резались на сундуке в дурака: я и тетя Наташа наверху, свесив головы с края печки, откуда тетушке удобно подсматривать в бабкины карты, а бабушка – на кровати, где есть возможность спрятать плохие карты под подушку. Мухлевали обе отчаянно. Заканчивался «дурак» обычно ссорой между ними.
На печке я выучилась читать. Некрашеный деревянный потолок, сплошь исписанный химическим карандашом, оказался для меня своего рода азбукой. Имена, частушки, даты каких-то событий… По словам тети, это Пашка с Колькой развлекались, братья. Спрашивая у нее буквы, и начала по слогам складывать эти письмена. На припечной полке еще пара книжек от дядьев завалялась. Прочитав по буквам названия, отыскивала в тексте знакомые слова. Но книжки-то для взрослых, я ни бельмеса в них не понимала, поэтому выдумывала. Садилась на край печки, раскрытую книжку – на коленки и с умным видом рассказывала какую-нибудь историю, водя пальцем по строчкам, типа читаю. Мама посмотрела-посмотрела – и записала этого читателя в детскую библиотеку в Чернаве, где на кирпичном заводе работала. Он находился на окраине села, а в библиотеку еще пару километров ехать на велосипеде, поэтому привозила целую авоську книжек, чтоб пореже долгий путь проделывать. Какое счастье – стопочка книг с картинками, сказочными историями, я не знала, за какую раньше схватиться; запах раскрытой книги – самый лучший запах на свете! Мне было пять лет.
Зимними вечерами хотелось почитать подольше, а не разрешали – глаза испортишь. Гасили свет – и спать. Да, электричество до Подмарки еще не дошло. Свет провели, когда я училась во втором классе, помню, в первом уроки с керосиновой лампой делала. В 1969 году, значит. Радио появилось чуть раньше. Мы его восприняли как чудо! Слушали из черного ящичка новости, про войну во Вьетнаме, прогноз погоды, не пропускали передачу «В рабочий полдень» – концерт по заявкам, бабушка фанатела от Людмилы Зыкиной. Днем – «В гостях у сказки», вечером – «Театр у микрофона»… Глуховатая бабушка и уставшая за день мама мгновенно засыпали, а я и Тёня слушали, слушали…
Отец, узнав, что дочь книгочей, вся в него, подарил мне «Сказки братьев Гримм», книгу большого формата, с иллюстрациями, до дыр ее зачитала. Потом рассказы Льва Толстого… Мы с теть Наташей поменялись ролями: она стала внимательной слушательницей, хотя порой задремывала под мое художественное чтение. И пациентом бывала – я ее «лечила», и моделью – наряжала во что-нибудь, прически делала. Защищала меня, если напроказничаю. Тёня – самый близкий мне человек в раннем детстве…
И обладала она одним удивительным качеством, про которое я периодически вспоминаю и которому всю жизнь пытаюсь научиться, но не получается: она никогда не жаловалась. Никогда. Никому. Ни на что.
Дядья
Два моих дядьки, Павел и Николай, получились настолько разные, что, не зная, и не примешь за родных братьев. Павел – крупный, степенный, не особо словоохотливый, больше делал, чем говорил. Крупные черты лица, шапка темных непослушных волос и голубые глаза. Вся моя родня с маминой стороны голубоглазая и круглощекая – настоящий славянский тип. Многое умел делать: и дом перестроить, и подвал выкопать, и сад развести, и пчел обихаживать. В саду у него стояло множество ульев, все разноцветные, пчелы гудели. Я любила следить, как он мед медогонкой качает из сот, Жулик тоже, тогда-то нас пчелы и покусали: глаза у меня только пальцами открывались. Когда дядька работал в саду в белом защитном костюме, то походил на белого медведя. И какое-то ощущение надежности создавал – большой сильный человек рядом…
Одно только у дядьки в жизни не получилось – Бог не дал детей, ни с первой женой, ни со второй. Первая от него ушла, по-видимому, по этой причине. У второй, тети Зины, рос свой сын. Одно время они жили в соседнем селе Афанасьево, где Павел построил дом. Из красного кирпича с голубой терраской – его до сих пор видно с трассы. Потом купил завалюшку в городе Ельце и на ее месте выстроил еще дом, своими руками; видимо, натренировавшись на двух первых, изладил просто хоромы – высокий, просторный, благоустроенный, он шикарно смотрелся на взгорке, позади – обихоженный компактный участок. И из этого дома отправился в последний путь: совсем не старый сгорел за неделю, жестоко простудившись при реставрации куполов Троицкого собора. Он был моим крестным.
Дядя Коля на два года старше Павла, но выглядел моложе: мелкий, порывистый, любитель похвастаться. Рассказы о своих подвигах подкреплял фразой: «Я, гад, как дам – шкура треснет!» Глядя на тщедушную фигурку, бабушка с тетей сдерживали улыбку. Открыто улыбаться было нельзя – он здорово обижался, если подозревал, что ему не верят. А «гад» – это такое междометие в его лексиконе, слово-паразит. Выпив, пел песни и начинал ощущать в себе безмерную любовь к ближним, всем в ней признавался, обнимался и целовался. Я от него пряталась на печку – он мог так обнять, что аж кости трещали. Мастеровитый – в том они с братом были схожи, – на Донбассе в шахте плотничал; обеденные столы в нашем доме, табуретки, лавки – дядькиных рук дело. Свой дом на Донбассе обиходил, и Валечке с Колюшкой тоже. Приезжая в отпуск, ни минутки не бездельничал – всегда находил, что отремонтировать в бабушкином доме, на дворе. Говорят, те, кто работает с деревом, живут долго. И в самом деле – дяде Коле выпал долгий век…
Когда он столярничал, я рядышком любопытствовала: вилась кудрявая стружка из-под рубанка, доска становилась гладкой и приятно пахло деревом! И мне разрешал построгать. Отбрасывая чуб (с хохлами ведь жил, на Донбассе), сколачивал табуретку и приговаривал: «Я, гад, все делаю на века: мою табуретку хоть из космоса бросай – не сломается!» Он и моей маме смастерил шесть табуреток и стол, прелестные – с витыми ножками, покрытые лаком. Они теперь стоят в моей квартире. И не ломаются.
Волшебная гора
…Если перейти Чернавку вброд, она у нашей пристани мелкая – у бережка, может, по колено, – то окажешься на земле другого села, Чернавы, а именно колхоза «Россия». Здесь и почва сероватая, рыхлая, не то что наш жирный чернозем. Это наверху, на полях, а сам берег – этакая круча, не обрыв, а прям гора, пока взберешься – дух вон. Она сложена, похоже, из сплошного известняка, камень на камне, между ними чернавскими стадами колхозных коров протоптаны дорожки. Вся гора разлинована, это видно издалека. Бедные животные, они на этих горных тропах копыта, наверное, сбивали, и трава еле успевала прорастать – так, редкие пучочки, не пощипать, но пастухи просто прогоняли их выше по течению реки, на выпас, где в низине трава сочная и много. Наверху известняк не валялся, вдаль уходили поля, лишь иногда глаз цеплялся за кучки других камней, крупных, похоже, из песчаника. Эта порода нашей местности несвойственна, камни притащил ледник, они находятся глубоко в почве и постепенно вырастают. При вспашке их отодвигают к краям полей, но через год-два прорастают новые. Мне любопытно было слушать рассказы про растущие камни, это казалось чем-то сказочным, но ничего странного в явлении нет: у грунта и камней разная плотность, разный коэффициент расширения при нагревании, их из-за перепада температур земля из своих глубин постепенно и выталкивает. Так что время собирать камни на чернавских полях, пожалуй, никогда не закончится.
С этой верхотуры вся Подмарка – как на ладони. Семь домиков, окруженных садами, огороды, уходящие к речке, пристани. Две из них свое название оправдывали – лодки на привязи, деда Андрюхи и деда Васяни. Они два родных брата, тогда еще здравствующих, а мой дед Захар был третий. Наверное, и у него тоже имелась лодка… Подмарка в долинке, наш дом крайний, в устье ручья, с огромным участком. Налево – тропинка в Троицкое, через Песчаный овраг, мимо заброшенного свинарника, где теть Наташа работала, вернувшись с Урала. И Троицкое видно, и даже Чернаву, если привстать, а еще лучше – подпрыгнуть. Направо – при впадении ручья – заросли ракиток, дальше – самое глубокое место в Чернавке, называется Лобань. Там, похоже, в стародавние времена тоже стояли дома, может, какой Лобан проживал, умный или твердолобый мужик. Так вот, в войну в это место наш самолет сбросил боеприпас – бабушка рассказывала. Говорит, бабахнуло – мы с жизнью попрощались. Видимо, мотор отказал, и летчик таким способом вес самолета уменьшил, чтоб успеть его посадить. За полями находился аэродром, там до сих пор есть площадка. Полетел в ту сторону, неровно как-то, но взрыва не слышали – слава Богу, приземлился. Военные действия в войну на Подмарке не происходили, но части поблизости размещались. При отступлении бабушке оставили раненого солдатика, она его выхаживала и, когда уже немцы отступали, в печке прятала. Он выжил, приезжал в гости после войны. Фашисты через Чернаву прошли второпях, гнали наши, не до Подмарки им было; солдатика свои забрали.
Глубина в Лобани – лодочный шест скрывается вместе с рукой до плеча. Метра три точно. И рыба водится крупная: зайдешь с другой стороны, с высокого обрыва, – и в солнечную погоду можно наблюдать сквозь мутноватую воду лениво передвигающихся огромных щук, жерехов. Так-то вода в речке прозрачная, родниковая, но в омуте застаивается. В том обрыве зимородки точно не гнездились – территорию оккупировали ласточки. Их развелась тьма – носились, пищали… Выше по течению от Лобани – еще брод, мелкий, бурлящий, а до него река течет спокойно, прячась в свисающих косах ракит. Может быть, броды образовались из-за того взрыва – русло изменилось.
Если смотреть прямо, по-над домиками, – вдаль уходит широкий лог, в котором петляет ручей Теплинский и перпендикулярно впадают овраги. Лог, в начале узкий и глубокий, тянется из соседнего села, Пречистено. Его там перегородили огромной плотиной, образовался пруд, а домики стоят по обе стороны оврага и искусственного водоема. Мы туда с бабушкой ходили к ее сестре Акулине, Акульке, в гости, а чтоб укоротить путь – не по оврагу и деревне, а полем, потом задами, одонками. Одонки – старинное название стогов сена, позже так стали называть и сенокосные места за огородами.
В бесчисленных оврагах часто обнаруживались всякие окаменелости, да и обломки известняка состоят из завитушек, раковинок, червячков, а то и прямо кораллы попадались. Конечно, в школе объясняли, что когда-то в низине разливалось море, и эта моя любимая возвышенность, вероятно, являлась берегом. Она мне была своего рода кинотеатром, нравилось подолгу там посиживать и посматривать: вот дядя Павел едет на велосипеде, вот сосед Ванюха с корзиной за плечами собрался корове травы нарвать, вот бабка Аксинья ругается на внуков. Соседи сверху казались кургузыми, смешными…
Спускаясь с горы, я срывала меж камней какие-то голубенькие цветочки на длинных тонких ножках. Они казались мне необычными – больше такие нигде в округе не встречала. Бабушка, рассматривая мои букетики, опознала лен, его когда-то на верхних полях сеяли – значит, семена вокруг разлетелись и лен одичал. Может, нынешние заросли одуванчиков – это потомки одуванчика кок-сагыз, который в войну и после нее культивировали на полях для получения каучука? Бабушка рассказывала, а ей тоже кто-то рассказывал, что в некоторых колхозах его выращивали, каторжный был труд. Некоторые умельцы дома вываривали корешки этого каучуконоса, опускали в отвар валенки – получались калоши.
Хозяйство
Самый большой приусадебный участок на Подмарке был у нас, поскольку землю «нарезали» на два хозяйства: бабушка с тетей Наташей – это считалась одна семья, а мама и я – другая фамилия, другая семья. Всего 50 соток, полгектара. Картошки сажали целое поле, это основная еда в деревне, еще и скотине, и на продажу – сдавали на Чернавский крахмалотерочный завод по две копейки за килограмм. Помню! Крахмал из местной картошки шел на экспорт. Капуста, свекла кормовая, красная – буряк, редька, морковка, огурцы, помидоры… Помидоры бабушка называла баклажанами, откуда-то взяла такое слово, ведь настоящие баклажаны сроду не видела, их у нас не выращивали. Наверное, подцепила от дяди Коли, когда тот приезжал в гости с Донбасса.
Если честно, огород занимал площадь на две сотки больше нам полагающейся, каждый год являлся землемер со своим аршином – измерительным инструментом в виде буквы «А», – перемерял и грозился лишнее «отрезать». Землемер – высокий и худой, шагал широко и сам был похож на циркуль, бабушка ворчала: «Чертов протягалень идет» – и убеждала его, что в концах участка, там, где трактор разворачивается, мы ничего не сажаем, хрен растет – так ведь не выведешь, а тыквы самосевом… Землю пахали трактором – у колхозного бригадира Чибрика просили технику с трактористом; вручную, лопатой, вскапывали только в саду под бахчи. Работы на земле невпроворот: разбрасывать навоз, сажать, поливать, бороться с сорняками, убирать урожай. Поливали водой из ручья, таскали ведрами до кровавых мозолей. С наступлением жары бабушка каждое утро, приложив ладошку ко лбу козырьком, вглядывалась в небо в сторону Пречистено, оттуда приходил «наш» дождь, и вздыхала: «Эх, дожжок нужен!» Когда на горизонте показывалась долгожданная темная полоска – радостно объявляла: «Замолаживает!» А тут такая напасть появилась – колорадский жук, которого тогда травить было нечем, просто собирали и уничтожали. Кому все это делать? Бабушка старенькая: в 1961 году, когда я появилась на свет, ей уже исполнилось 66. Тетя Наташа еле ходила – инвалид 1-й группы, я маленькая… Вот мама в основном и вкалывала в домашнем хозяйстве по вечерам после работы да в выходные. И траву на сено косила, где только можно, мы с Тёней его ворошили и сгребали в стожки. Еще и гектар сахарной свеклы в колхозе брала: протяпать, убрать, сдать урожай, чтоб деньги получить и сахар. У меня тоже имелась своя мини-тяпка, дядя Коля сделал, и я ею в грядках ковыряла. И колорадских жуков мне поручали…
Дядя Паша после переезда наведывался вначале часто – у него тут пчелы оставались, помогал по хозяйству. Потом ульи продал, и дядькины жены уже его отпускали неохотно… Жили трудно, зарплата у мамы мизерная, алименты не получала по причине того, что отец мой любил свободу: колесил по стране – целина, лесоповал, женился-разженился, – исполнительные листы за ним не поспевали. Бабушке и тете полагалось по 12 рублей колхозной пенсии. Они и этим рублям радовались – такую сумму назначили лишь в 60-х годах, до этого причиталось по три рубля. Но еды, хоть и простой, хватало – все свое.
Собранный урожай картошки ссыпали в подвал через специальное отверстие в своде, которое летом служило вентиляцией. Часть морковки, свеклы, редьки хранили в земляной траншее, так как урожай в подвале не помещался, – зимой сверху снега побольше набрасывали, весной откапывали – все как свеженькое. Яблоки – в плетеных коробках (плетушках) в поросячьей закуте, пересыпанные соломой, ели их до весны. Поросенок тут же квартировал, у него еще и утепленный домик имелся на случай морозов. Откармливали его до тех пор, пока уже на ноги встать не мог. Кур в хозяйстве было бессчетное количество и, конечно, корова. Капусту квасили бочками, помидоры, огурцы. Бочки к заготовкам замачивали в ручье, чтоб набухли и не протекали, пропаривали, овощи в них придавливали сверху плоскими камнями, прокипяченными в чугунке на металлической печке, стоящей в палисаднике. На этой печке варили и варенье из слив, малины, смородины, потом опускали в подвал в эмалированных кастрюлях и ведрах. Стеклянные банки были в дефиците – в них закрывали немного вишневого и сливового компота для девки (для меня). Яблоки, груши и малину бабушка еще и сушила. Варенье на уличных печках на Подмарке уваривалось долго, до коричневого цвета зернышка; запахи в вареньевый сезон доносились по речке, наверное, до соседних сел: сладкий малиновый, кисловатый сливовый и головокружительный вишневый. Крупная и сладкая вишня росла у дядь Вани с теть Машей, мы у них немного покупали, а они запасались ею на зиму в непомерных масштабах – мне так казалось, потому что вишневый запах витал у их дома недели две. Вместе с тучами ос. Зато мне удавалось полакомиться пенкой – теть Маша сама звала из-за кустов дяди-Пашиного сада, и я мчалась к ним с тарелкой и ложкой!
Яблонь в нашем саду росло 12. Два штрифеля, антоновка, скрижапель и лимоновка. Яблони в возрасте, старинные сорта. Скрижапель – сорт очень поздний, лежкий, сладкий и жесткий, как камень. Яблочки некрупные, зеленоватые, зато мороженые хороши, соком захлебнуться можно. Лимоновка (бабуля называла ее алимоновка) – ранняя, похожа на белый налив, но с лимонным запахом, урожайная – дерево плодами просто усыпано. Мы из нее повидло варили. Пепин, уэлси и две бельфлер-китайки – гораздо моложе, их посадили после отмены налога на плодовые деревья. Существовал такой налог, поэтому большую часть сада, разведенного дедом, в войну спилили на дрова. Пять яблонь оставили, да еще две у ручья: анисовку и коричневку. Бабушка от них перед сборщиками налогов открещивалась – типа они дички, сами выросли, и мы ими не пользуемся. Самое вкусное яблоко, по мне, – бельфлер-китайка. «Белль флер» с французского – белый цветок. Оно крупное, с нежными розовыми полосками, белая сочная мякоть и неповторимый аромат. В прошлом году купила на рынке два килограмма – нет, не такие… Уэлси все чахла, яблоки на ней плохо рождались, я их и не запомнила. Старая грушенка росла у дровяного сарая, какая-то Красавица, сладкая, ароматная, но на хранение не годилась, нужно было побыстрее съедать. В саду дяди Павла обсыпались плодами бергамоты – крупные, зеленые, округлые, ветки одного дерева прямо к нам во двор свешивались. Груши вкуснее тоже не знаю: сладкие, сочные; с макушки, перезревшие, какие не достать, шмякались на землю и расшибались вдрызг. Дядя Паша, живя с нами по соседству, садом занимался: трава скошена, приствольные кружки вскопаны, стволы побелены, деревья обработаны от вредителей. Еще любил экспериментировать – прививал на дички разные сорта яблонь, у него на одном дереве по два сорта плодоносили. Без него сад запустили…
Мама, уже в старости, вспоминала Подмарку как бесконечный тяжкий труд, ведь женское царство полностью зависело от огорода и живности. Ей и по сторонам посмотреть было некогда… А ведь весной, в пору цветения, наш заповедный уголок был словно белое облако, опустившееся с небес на землю. А аромат! Приехали мы туда, уже в юности, с одним молодым человеком ночью на мотоцикле. На экскурсию. Тихонечко, самокатом с горки, чтоб никого не разбудить. Цвели сады и черемуха у ручья, пели соловьи, и мой кавалер, не сентиментальный ни разу, восторженно выдохнул: «Как в сказке!»


