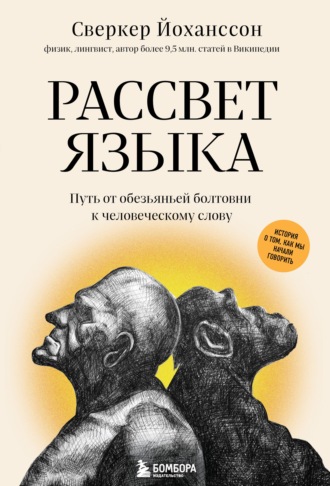
Сверкер Йоханссон
Рассвет языка. Путь от обезьяньей болтовни к человеческому слову. История о том, как мы начали говорить
Не так давно ученые обнаружили, что дельфины могут отправлять друг другу сигналы, тождественные тем, которые они «слышат» при помощи своего «эхолокатора». Мы пока не знаем, используется ли эта система в целях коммуникации, но это тот самый случай с акулой, который я описал выше.
Дельфин, который хочет «рассказать» другому дельфину, что он обнаружил, использует свой «эхолокатор», чтобы передать копию полученного им сигнала. И благодаря этому «фальшивому эху» другой дельфин «видит» то же, что и первый.
Это все равно, как если бы люди общались, обмениваясь маленькими картинками. И мы действительно делаем это, игра «Пикченери» построена примерно по такому же принципу, даже если точность воспроизведения условна, особенно когда дело касается абстрактных понятий.
Так есть ли у дельфинов язык? У них есть система из множества различных звуков, которую они используют в разных ситуациях. И при этом дельфины хорошо обучаемы и могут без проблем усваивать новые звуки. Они способны передавать сообщения о конкретных предметах и узнавать друг друга при помощи звуковых «сигнатур».
Все это могло бы стать хорошей основой для создания более продвинутого языка, но мы пока слишком мало знаем о дельфинах, чтобы судить о том, на что способна их система коммуникации в естественной среде и насколько она близка языку в полном смысле этого слова.
А может, мы просто слишком зациклены на себе и вопрос о том, есть ли у дельфинов язык, вообще не имеет смысла? Что если их система по своим возможностям не уступает нашему языку, только функционирует несколько иначе?
Могут ли животные выучить язык?
Попугай стал популярным благодаря способности обучаться человеческому языку. Или нет, конечно, попугай лишь подражает звукам, без малейшего намека на понимание. Само слово «попугайничать» (англ. Parrot) означает именно это.
Попугай поднаторел воспроизводить самые разные звуки, не только человеческой речи, причем иногда с поразительной точностью. Конечно, он развил свой природный талант не для того, чтобы научиться говорить как люди. Попугаи «попугайничают» с теми же целями, что и певчие птицы поют. Среди соловьев считается сексуальным умение выводить множество разнообразных трелей, среди попугаев – точнее подражать большему числу звуков.
Часть их социальной игры – подражать друг другу. Главное – превзойти соперника в искусстве подражания. Поэтому попугаи так часто и с удовольствием повторяют все, что слышат, особенно в социальном контексте. И этим пользуются люди. Если попугай много раз услышит человеческую фразу в процессе общения с дрессировщиком, то сможет потом довольно точно ее воспроизвести.
Но учатся ли попугаи при этом языку в собственном смысле этого слова? Едва ли. Обычно они «зазубривают» несколько стандартных фраз, которые потом повторяют, очевидно, совершенно не понимая их значения. И никогда не создают новых высказываний из заученных слов.
То, что они могут воспроизводить человеческую речь, само по себе удивительно. Немногие в животном мире способны на такое. Среди пернатых, кроме попугаев, привычка подражать услышанному замечена у колибри и некоторых певчих птиц, но большинство этого не делает. В любом случае, никто не преуспел в этом искусстве так, как попугаи.
Среди млекопитающих «имитаторов» и вовсе немного, разве что некоторые тюлени. Большинство животных не могут так управлять своими речевыми органами, чтобы настроить их повторять услышанные звуки.
Способности обезьян в этом плане более чем скромны. К примеру, некоторые особи могут повторять звуки других, чтобы приспособиться к «диалекту» стаи, в которой оказались.
А вот люди в искусстве подражания мало чем уступают попугаям и оставляют далеко позади всех прочих млекопитающих. Мы умеем имитировать новые звуки, и это получается тем лучше, чем дольше и усерднее мы упражняемся. Особенно хорошо это выходит со словами. Мы без особого труда повторяем новое слово, которое только что услышали. А дети и вовсе учатся говорить, постоянно копируя речь взрослых.
Эта способность – непременное условие существования звучащего языка. Если бы мы не умели имитировать чужую речь, никогда бы не выучились говорить и не смогли бы передавать язык из поколения в поколение. В то же время этот талант полностью отсутствует у наших ближайших родственников, а потому должен был появиться где-то в процессе эволюции вида Homo sapiens.
Но зачем мы вообще развили в себе эту способность? Ради языка – вот первый ответ, который приходит на ум. И тут же возникает проблема «курицы и яйца».
Дело в том, что для эволюции не существует отдаленного будущего: те или иные качества не развиваются только потому, что будут полезны в дальнейшем. И если способность подражать необходима для появления языка, то на момент его возникновения она уже должна была быть. Но в таком случае для ее появления были другие причины.
Для некоторых птиц имитация звуков окружающего мира – один из способов обогатить свой певческий репертуар. Попугаи делают это без видимой практической цели. Возможно, таким образом они рассчитывают завязать знакомство или приобрести влияние. Речь идет в конечном счете о новых возможностях совокупления. Что если у человеческого таланта к имитации похожее происхождение? Быть может, у наших далеких предков способность подражать другим животным влияла на социальный статус? Никаких доказательств этой гипотезы у нас нет.
Ученые обратили внимание на подражательные способности современного человека, не связанные с лингвистическими целями. Охотники, грибники и прочие любители леса нередко подражают звукам животных как на охоте, так и позже, рассказывая о ней. В условиях, когда не было языка, эта способность могла иметь большое значение, скажем, при планировании совместной охоты. И это одна из возможных причин развития у человека «подражательного» таланта.
* * *
– Принеси полосатый мяч!
Белая колли мчится в конец сада, где лежит несколько мячей и других игрушек, и возвращается с полосатым мячом.
– Молодец, умная собака. А теперь принеси утку.
Некоторое время колли озадаченно перебирает игрушки, но в конце концов останавливается на желтой пластмассовой утке.
– Отлично! Печенье?
– Вау!
Собака хватает лакомство, ложится рядом с хозяином и, довольная, жует.
* * *
Насколько далеко простираются лингвистические способности братьев наших меньших? Многие из нас пытались научить животных человеческому языку с более или менее переменным успехом.
Одно очевидно для любого, кто пробовал учить лошадей, собак и других домашних питомцев, – их можно обучить понимать некоторые вербальные команды. Собаки без проблем усваивают команду «сидеть!» и после некоторой тренировки учатся на слух отличать это слово от других. В крайнем случае мы можем подкрепить приказ жестом. Сесть на стул, когда говорим «сидеть», или встать со стула, отдавая соответствующую команду.
Многие млекопитающие способны научиться такому, даже если с одними животными это получается лучше, чем с другими. Выдрессировать кошку садиться по команде труднее, чем собаку. И дело здесь не в интеллекте, как подсказывает мне мой опыт общения с кошками. Просто выполнять приказы действительно не кошачье дело.
Но то, что собака может адекватно интерпретировать наши слова, значит ли это, что она понимает человеческий язык? Ну… во всяком случае, речь идет об очень ограниченном понимании. Собака различает слова разных команд до тех пор, пока знает, что должна делать, скажем, при слове «сидеть». Если же слова связаны с пищей и кормлением, проблем с интерпретацией тем более не возникает.
Среди собак попадаются особенно талантливые, которые способны усвоить сотни слов, выбрать из кучи игрушек нужную и принести хозяину. Но и в этом случае не может быть и речи о полноценном понимании языка.
Животные всего лишь запоминают некоторые слова и связывают каждое из них с определенным действием. Ничто не указывает на то, что собака хоть как-то воспринимает грамматику. Она всего лишь узнает некое ключевое слово, что бы там ни думали хозяева о своем питомце, и реагирует на него вполне конкретным действием. Либо реагирует на наше поведение определенным действием, – например, когда мы садимся, приказывая ей сидеть, или наполняем миску кормом. Ничто – увы – не указывает на большее.
Лингвистические способности человека позволяют ему рассуждать о том, чего нет здесь и сейчас, и в этом направлении ни у одной из собак до сих пор не наблюдалось никакого продвижения.
* * *
Два существа сидят за столом, на котором навалена куча разной мелочи, в основном детские кубики и мячики разных цветов.
– Дай мне красный кубик, – говорит существо № 1.
Существо № 2 вытаскивает из кучи красный кубик и протягивает существу № 1.
– Сколько здесь зеленых мячиков? – спрашивает первое существо.
– Три, – отвечает второе. – Я хочу орех.
Существо № 2 получает орех. № 1 продолжает:
– А сколько здесь синих игрушек?
– Две.
№ 2 выложил перед № 1 синий мячик и такого же цвета кубик.
– А это какие там игрушки зеленого цвета? – спрашивает № 1.
– Это зеленые шары, – отвечает № 2.
– Какой ты молодец! Вот тебе еще орех.
* * *
Разумеется, собаки не могут говорить по-человечески. Анатомически их голосовой аппарат не приспособлен к звукам человеческой речи, и собаки не могут управлять голосовыми органами, чтобы те могли издавать что-либо помимо лая, рычания или скулежа. Герой проведенного выше диалога – попугай, отвечающий на вопросы человека. Эта птица, как мы уже заметили, идеально воспроизводит человеческую речь.
Но этот попугай не просто подражает, он как будто использует язык «по-настоящему», то есть понимает вопросы и дает на них разумные ответы. Птицу зовут Алекс, и она много лет проходила обучение у Ирене Пепперберг[28]. Алекс не просто знает много слов, он употребляет их так, будто понимает значение. Может ответить на множество вопросов о форме, цвете и количестве предметов. Если его спросить: «Сколько здесь зеленых мячей?», – он ответит: «Три», в то время как на столе, кроме трех зеленых мячей, лежат еще три красных и еще зеленые кубики. А если Алекса спросить: «Что это там зеленое?» – показывая на зеленый мячик, он ответит: «Мячик».
Трудно объяснить это как-то иначе, нежели тем, что Алекс понимает человеческую речь. Во всяком случае, знает множество понятий, обозначающих разные предметы, цвет, форму и количество. И его языковых способностей хватает на то, чтобы облечь эти понятия в слова. При этом Алекс так и не овладел языком настолько, чтобы уметь поддержать общий разговор на другие темы, нежели те, которым его специально обучали.
Тем не менее достижения Алекса впечатляют. Особенно с учетом того, что речь идет о существе, мозг которого размером с грецкий орех. Несмотря на это ему удалось овладеть какой-то частью человеческого языка, и еще неизвестно, в какой степени Алекс понимал грамматику.
Результаты многочисленных попыток научить других животных говорить чаще всего куда более скромные. Попугаи, пожалуй, демонстрируют в этом направлении лучшие способности и могут произносить слова почти как люди.
Практически все эксперименты такого рода с обезьянами можно считать неудачными. Обезьяны не могут управлять своими «речевыми» органами настолько, чтобы воспроизводить человеческие звуки и складывать их в слова.
Это относится и к шимпанзе, выросшим в человеческих семьях на правах приемных детей вместе с человеческими «братьями» и «сестрами». Классический эксперимент был проведен в 1930-х годах в США, и молодая шимпанзе поначалу ни в чем не уступала человеческому ребенку, кроме… языка. Гуа, так звали эту шимпанзе, понимала большую часть того, что ей говорили, но при этом не могла извлечь ни одного более-менее понятного слова из своего горла. Вместо этого она отвечала обычными обезьянимы звуками, которые, правда, приспособилась связывать по-своему и использовать в новых контекстах, но все это даже отдаленно не напоминало человеческую речь.
С другой стороны, язык совсем необязательно состоит из звучащих слов, тем не менее остается языком. И поскольку именно воспроизводить звучащую речь оказалось для обезьян непреодолимым барьером, попытки исследователей перекинулись на невербальные языки. В серии экспериментов, проводимых начиная с 1960 года, использовался язык жестов или различные искусственные языки, когда, к примеру, нажать на клавишу или указать на символ на доске означало произнести слово. И занятия с обезьянами про помощи этих подручных средств действительно были куда более успешными.
Животные без проблем выучивались использовать некоторые «слова» и в правильном контексте.
Шимпанзе Уошо (1965–2007) особенно отличилась в экспериментах с языком жестов. Идея была та же, что и с Гуа. Уошо выросла в человеческой среде, насквозь пронизанной языком. С той только разницей, что это был язык жестов. Уошо выучила несколько сотен жестов амслен – варианта языка для глухих, распространенного на территории США, – и правильно использовала их в нужных ситуациях. Кроме того, она могла соединить некоторое количество жестов в вполне разумное высказывание.
Еще один эксперимент с языком жестов подвел черту под многими работами по этому вопросу. Его героем стал шимпанзе Ним Чимпски. Ним учился языку жестов тем же способом, что и Уошо, но скорее в лабораторной обстановке, где проводили много научных тестов, которые подтверждали его достижения.
Этот эксперимент считается скорее неудачным. Ниму удалось выучить совсем немного жестов, и комбинировать их он практически не умел. Герберт Террас, ответственный за эту работу, сделал вывод, что у шимпанзе нет способностей к языку, не говоря о грамматике. Ученый упрекнул своих предшественников в том, что они были недостаточно объективны и трактовали результаты опытов чересчур оптимистично.
В частности, указывал Террас, недостаточно учитывался эффект Умного Ганса.
* * *
Умный Ганс – конь, который жил в Германии за сто лет до того и прославился своими математическими способностями. Хозяин Умного Ганса неплохо заработал на его талантах. Коню можно было задать любую арифметическую задачу, и он копытом выстукивал ответ. К примеру, на вопрос о квадратном корне из 25 раздавалось пять постукиваний.
В конце концов нашелся психолог, который с подозрением отнесся к лошадиному гению и провел с животным эксперимент, показавший, что Умный Ганс вообще не умеет считать, зато прекрасно считывает человеческие эмоции.
Если вы задаете вопрос, а лошадь начинает стучать, то вы невольно напрягаетесь, когда она приближается к правильной цифре. Умный Ганс всего лишь был наблюдательным: по выражению лица или позе вопрошающего он улавливал признаки напряжения или расслабления и в нужный момент прекращал стучать. Когда Умный Ганс не видел никого, кто знал бы правильный ответ, он не мог решить простейшей задачи и продолжал бить копытом, пока его не останавливали.
В этом и заключается эффект Умного Ганса. Животные, которых чему-то учат, зачастую демонстрируют совсем не то, что думают люди, но улавливают самые незначительные знаки в поведении дрессировщиков и экспериментаторов, на основании которых и делают то, чего от них ждут. Этот фактор необходимо учитывать и при обучении обезьян языку жестов, поскольку дрессировщик тесно общается с животным и может дать ему массу невольных подсказок, как получить вознаграждение.
Чтобы оградиться от эффекта Умного Ганса, важно, чтобы в эксперименте у животных не было визуального контакта с теми, кто может неосознанно подсказать правильный ответ.
До известного момента этот фактор практически не учитывался в опытах с шимпанзе, поэтому нельзя исключать, что, к примеру, Уошу действовал по тому же принципу, что и Умный Ганс. Только с Нимом Чимпски исследователи стали осторожнее, и результаты тут же ухудшились. Многие исследователи пришли к выводу о бесполезности лингвистических штудий с обезьянами. Многие, но не все.
В 1970-е годы опыты возобновились, хотя после фиаско с Нимом Чимпски добиться финансирования стало гораздо труднее. Горилла Коко обучалась языку жестов и достигала еще более впечатляющих успехов, чем Уошо. По словам ее тренера, на момент смерти в 2018 году Коко освоила свыше тысячи жестов и затейливо применяла их в повседневной жизни. Но и в этом случае не обошлось без упреков, что эффекта Умного Ганса учли не в полной мере.
Дельфинов тоже пытались учить языкам разными способами. И они показывали неплохие успехи, как в случае звучащего человеческого языка, так и языка жестов и специально разработанного на основе свиста. В плане понимания они не уступали ни обезьянам, ни попугаю Алексу. Трудность скорее в том, чтобы заставить дельфинов выражать свои мысли понятными людям словами – при всем выдающемся таланте этих животных имитировать звуки.
Два шимпанзе, Шерман и Остин, участвовали в другом эксперименте, с иными условиями и задачами. Этот опыт заслуживает куда больше внимания, чем ему уделяли до сих пор. Вместо того чтобы помещать обезьян в человеческую среду, им предоставили коммуникационную систему, подходящую для «внутреннего» обезьяньего пользования, то есть для общения шимпанзе с шимпанзе.
Шерман и Остин сидели каждый в своей комнате, каждый перед своей клавиатурой с одинаковым набором символов. Они не могли попасть друг к другу, но каждый видел на экране, какую клавишу нажимает другой. Это позволяло обезьянам общаться при помощи символов друг с другом, что намного интереснее, чем отвечать на дурацкие вопросы двуногих.
Шимпанзе быстро приспособились использовать символы, чтобы передавать друг другу сообщения, и даже научились договариваться об их новых значениях. Когда им однажды дали новый фрукт, для которого на клавиатуре не было символа, каждый держал угощение перед экраном, демонстрируя другому, а потом один из шимпанзе выбрал символ на клавиатуре и нажал клавишу. Так обезьяны договорились о том, как в их языке будет обозначаться новый предмет.
Все это очень важно, поскольку именно так появляются новые слова и в человеческом языке. Возникает новое понятие, и для его обозначения требуется новое слово. Кто-то предлагает или просто придумывает слово и начинает его использовать. Если другие поддерживают его, слово приживается. В этом основа многообразия и гибкости человеческого языка, и в рамках своего, «символического», языка Шерман и Остин делали примерно то же самое.
Интересно, что в этой ситуации шимпанзе использовали лингвистическую способность, которая, очевидно, никогда не проявляется у них в естественной среде обитания.
Поворотным пунктом в работах с обезьянами стало обучение бонобо Канзи, родившегося в 1980 году. Канзи был маленьким, когда его приемная мама участвовала в эксперименте, в котором училась общаться с помощью символов. Каждый символ располагался в отдельном квадрате на экране компьютера или был прикреплен магнитом к обыкновенной доске, и мама Канзи должна была поддерживать беседу, указывая на символы.
Дела шли не очень хорошо. За долгое время мама так никуда и не продвинулась. Но как-то раз исследователи (во главе с Сью Сэвидж-Рамбо) заметили, что маленький Канзи, который был почти на каждом уроке, усваивает гораздо больше, чем мама. Внимание экспериментаторов перекинулось на малыша, который быстро выучил всю доску с символами.
Сегодня он не такой маленький (каждый правильный ответ вознаграждался конфетой: немало килограммов было съедено за эти годы) и без проблем использует в своей «речи» сотни символов и понимает разговорный английский по крайней мере не хуже двухлетнего малыша.
Канзи быстро стал популряным как среди ученых, так и журналистов. Теперь он – ключевая фигура в маленькой группе, в которую входят обезьяны и исследователи. Они проводят множество совместных экспериментов и в повседневной жизни общаются при помощи доски с символами.
Все опыты с Канзи тщательно задокументированы. Экспериментаторы сделали все возможное, чтобы избежать действия эффекта Умного Ганса. Помимо прочего, Канзи инструктировали по телефону – как обычно, по-английски. И лишь положив трубку, он приступал выполнять задания. С ним в комнате находился человек (в берушах, чтобы не слышать телефонного разговора), который наблюдал за тем, что делал Канзи, и записывал. Этот человек не знал, что именно поручено Канзи, и поэтому не мог ему подсказать, как подсказывали Умному Гансу.

Шимпанзе Канзи со своим тренером Сью Сэведж-Рамбо. Сью держит доску с символами, показывает один из символов и произносит обозначающее его «слово»
И то, что Канзи в таких условиях выполнял инструкции более-менее верно, говорит о том, что он понимал английский. Речь, конечно, не идет о каких-либо языковых тонкостях, но инструкции не были тривиальными. Например, Канзи попросили вымыть морковь на столе в кухне и положить ее в миску в гостиной. И бонобо безупречно справился с этим заданием.
Кинзи мог слушать инструкции по телефону и понимал, что на другом конце провода человек, – это выглядит не менее впечатляюще.
Сохранилось множество историй о достижениях Канзи в повседневной жизни, более или менее задокументированных. Есть сведения, что Канзи смог зажечь костер при помощи спичек и подбрасывал в него дрова, а потом приготовил на огне омлет. Бонобо мог изготовлять простейшие каменные орудия с острой кромкой и с их помощью перерезать веревку. Говорят, Канзи даже играл в компьютерную игру «Пакман».
Бог с ним, с «Пакманом», но бонобо управлялся со всем, что, по нашим представлениям, умели делать австралопитеки, и со многим из того, что умел Homo erectus. С другой стороны, еще никто и никогда не заставал шимпанзе в джунглях, пока тот жарил омлет или изготавливал каменный нож, не говоря уже о «Пакмане». И снова мы возвращаемся к тому, что у обезьян есть скрытые способности, которыми они не пользуются в дикой природе.
Языковые таланты Канзи выходили далеко за рамки коммуникаций, которые мы можем наблюдать у диких шимпанзе. Но и у человека есть множество способностей, которые он не использует в «естественном состоянии», что в нашем случае, по-видимому, означает жизнь первобытного охотника-собирателя.
Все – начиная от решения дифференциальных уравнений до создания водородной бомбы и написания этой книги – все это человеческие способности, которые до поры оставались скрытыми и проявились только в наши дни.
Альфред Рассел Уоллес, пришедший к идее эволюции и естественного отбора одновременно с Дарвином, много размышлял над проблемой «высших ментальных способностей» человека. Он пришел к выводу, что естественный отбор не объясняет, как они возникли, и что здесь требуется качественно иное, духовное объяснение помимо того, что дается в рамках естественных наук. Эта точка зрения жива по сей день среди религиозных эволюционистов. И во времена Уоллеса – а он опубликовал свои идеи на эту тему в 1860-х годах – ее поддерживали многие ученые.
В рамках естественно-научной картины мира подобные, казалось бы, ненужные способности могут быть рассмотрены как проявление более общей способности, которая использовалась нашими предками совершенно в других целях.
Естественный отбор не породил ни математиков, ни инженеров, зато дал жизнь биологическому виду, наделенному необыкновенной когнитивной гибкостью, высокоразвитой способностью решать все мыслимые проблемы, которые ставит перед ним жизнь. Именно эта способность развивалась у первобытных охотников и собирателей, поскольку позволяла им выживать не только в условиях естественной среды, к которой они были приспособлены изначально, но и в любых природных условиях, какие только мыслимы на нашей планете, – от арктической тундры до тропических атоллов.
Те же способности по-прежнему помогают нам справляться с насущными проблемами, пусть даже совсем другими, нежели те, с которыми справлялись наши предки.
Этим, в частности, можно объяснить и то, почему некоторые из нас умеют решать дифференциальные уравнения. Дело вовсе не в том, что дифференциальное исчисление так волновало умы наших предков. Просто интеллект, который они сумели в себе развить, мы применили и к дифференциальному исчислению, когда это потребовалось.
Те же принципы работают и в отношении познавательных возможностей обезьян – куда более скромных, чем наши, – включая способность усваивать отдельные аспекты человеческого языка.
Особо интересно, в том числе и для эволюции языка, что некоторые лингвистические способности наших ближайших родственников скрыты, то есть не проявляются в естественной среде обитания. Возможно, то же самое было и у наших с ними общих предков 5–10 миллионов лет тому назад. Что-то было не так с нашими предками, что отличало их от предков шимпанзе и способствовало тому, что язык развился у нас, но не у обезьян.
Между этими двумя эволюционными линиями должно было наметиться некое существенное различие, которое, в частности, может служить хорошим тестом для проверки разных теорий происхождения языка на правдоподобие. Хорошая теория должна не только объяснять, почему язык развился у нас, людей, но и почему он не развился ни у шимпанзе, ни у каких-либо других животных. Этот тест на правдоподобие называют еще «тестом шимпанзе».


