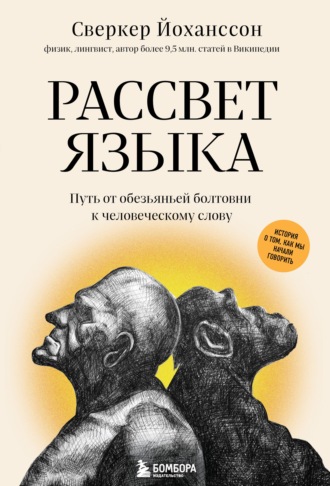
Сверкер Йоханссон
Рассвет языка. Путь от обезьяньей болтовни к человеческому слову. История о том, как мы начали говорить
Природа грамматики
Это вплотную подводит нас к проблеме сущности грамматики и ее отношения к практическому использованию языка. Существуют ли грамматически правила у нас в головах и какие это правила в таком случае? Как работает грамматика?
Имеет смысл посвятить пару страниц этим вопросам, прежде чем переходить к происхождению грамматики.
Мы редко вспоминаем о ней, используя язык в повседневном общении. И если бы мы не изучали основы грамматики в школе, многие из нас вообще не знали бы о ее существовании. То есть по большей части использование грамматики совершенно бессознательно. И в большинстве случаев мы все делаем правильно. То есть ошибки, конечно, случаются. Когда мы сомневаемся или делаем паузу посредине фразы, особенно легко потерять грамматическую нить и поставить слово не на то место. Но по большей части грамматика работает даже в речи тех, кто знать не знает о ее существовании.
При этом мы, как правило, замечаем грамматические ошибки в речи других. Когда кто-то нарушает предписанный правилами порядок слов или неправильно спрягает глагол, это режет нам слух. Мы можем толком не знать, в чем конкретно его оплошность, которая в большинстве случаев не мешает нам понять смысл сказанного. Тем не менее нас преследует ощущение, что что-то здесь не так. Откуда оно берется, если мы не владеем грамматикой осознанно?
С одной стороны, в этом нет ничего удивительного. Мы много чего умеем делать, не понимая при этом теоретических основ процесса. Мы ездим на велосипеде, ничего не зная ни о моменте вращения, ни об импульсе, и бросаем мяч точно в цель, хотя никогда не изучали баллистику, и так далее. Так обстоит дело с большинством моторных навыков. Мы отрабатываем действие быстрее, нежели успеваем понять его суть.
Не уверен, что понимание вообще помогает в таких случаях. Даже если я выучу баллистику и научусь рассчитывать траекторию движения мяча, на качество броска это не повлияет.
Все это наводит на мысль, что грамматика подобна моторному навыку в нашей голове, чему-то такому, с чем мы учимся управляться чисто механически, не задумываясь. В этом смысле у грамматики много общего, скажем, с ездой на велосипеде. Это искусство, и, если мы попытаемся теоретически его проанализировать, скорее всего, столкнемся со множеством трудностей. То же с языком. Ни один из существующих человеческих языков не уложится в рамки теоретического описания, во всяком случае, без ожесточенного сопротивления.
У лингвистов нет единого мнения насчет того, в каком виде грамматика существует в наших головах. На эту тему в ходу множество теорий, настолько разных, что будет правильнее говорить о грамматических парадигмах.
Парадигма – понятие, введенное философом науки Томасом Куном в книге «Структуры научных революций»[25], впервые изданной в 1962 году. Кун использовал этот термин для описания не такой уж редкой в науке ситуации, когда существуют принципиально разные точки зрения на один предмет исследования. То есть разнятся не только ответы ученых на вопросы относительно сути исследуемого объекта, но и сами вопросы, которые ставят перед собой исследователи.
В различных парадигмах сама реальность коммуникации предстает настолько по-разному, что сравнение их между собой вряд ли имеет смысл. Примерно такая же ситуация сложилась и с грамматикой. Нет единого мнения о том, какие вопросы должна ставить перед собой теория грамматики, что уж говорить об ответах.
Одна из немногих истин, с которыми, кажется, согласны все, заключается в том, что грамматика в нашей голове мало чем похожа на те правила, которые многие из нас изучали в школе. Но на что же она в таком случае похожа? Мнения на это счет сильно расходятся. Разные парадигмы, можно сказать, говорят на разных языках. Еще одна истина, почти не вызывающая возражений, состоит в том, что, кроме грамматики, в нашей голове имеется лексикон. Каждый, кто пользуется языком, знает тысячи слов и должен располагать специальным ментальным аппаратом, чтобы ориентироваться в этом богатстве. Это и есть то, что мы называем ментальным лексиконом, не особенно разбираясь в том, как он работает и в каких отношениях состоит с ментальной грамматикой.
Итак, в науке существует несколько грамматических парадигм – принципиально разных идей о том, как работает грамматика и какие задачи должна ставить перед собой теория грамматики. Ниже я рассмотрю важнейшие из них.
Генеративная грамматика
Генеративная грамматика – название одной из основных грамматических парадигм, целого семейства грамматических теорий, берущих начало в работах Ноама Хомского, 1950-х годов и более поздних. Согласно этим теориям, грамматика есть не что иное, как набор правил конструирования высказываний. Конструировать высказывания означает применять правила языка примерно так, как это делал бы компьютер, то есть систематически сканировать систему правил, чтобы строить высказывания, которые соответствуют правилам.
Это можно сравнить с программой для игры в шахматы. В принципе программа может рассчитать все возможные позиции на шахматной доске, которых правила позволяют достичь, исходя из заданной позиции. Генерирование всех возможных в языке высказываний, равно как и расчет всех позиций в шахматах, носит скорее теоретический характер, поскольку количество того и другого намного превышает возможности любого мозга и любого компьютера. Число позиций в шахматах, по крайней мере, конечно. Между тем как количество возможных высказываний языка, согласно генеративной теории, бесконечно.
При этом в шахматах, как и в языке, накладываются определенные ограничения на то, что может быть сгенерировано. Положения на шахматной доске с двумя королями на соседних полях достичь невозможно, если следовать правилам игры. Высказывание «Девушка на имеет использованы улица бывает» – тоже невозможно с точки зрения грамматики. Модели словесных конструкций, которые можно и нельзя конструировать, и их значения – вот важнейшая путеводная нить к законам, лежащим в основе языка.
Здесь я вынужден упрощать, современные версии генеративной грамматики намного тоньше. Но основная идея так или иначе сводится к тому, что грамматика представляет собой набор правил, или математических операций, которые способны генерировать все грамматически правильные высказывания в языке. И этот язык определяется высказываниями, которые генерирует грамматика.
То есть грамматикой занимается отдельный модуль человеческого мозга, совершенно независимый, не связанный напрямую ни с другими мыслительными способностями, ни со словарем, ни с заключительными процессами, преобразующими то, что мы хотим сказать, в фактическую речь.
Эта парадигма тесно связана с идеей врожденной грамматики. Мы рождаемся с готовым грамматическим модулем. Разумеется, он не является специализированным модулем грамматики какого-либо конкретного языка, а представляет собой как бы общее программное обеспечение для пользования грамматикой со встроенными принципами. Изучение детьми грамматики родного языка – не что иное, как регулирование различных настроек и параметров в модуле, примерно как мы это делаем на домашнем компьютере.
В основе генеративной грамматики лежит представление о языке как коде, встроенном в наш мозг. Ядро его – грамматические структуры, которые определяют язык. Пазл-коммуникации со всеми ее упрощениями нет места в этой парадигме. В ее фокусе письменный язык. Традиционно грамматика изучалась лингвистами с помощью прямых суждений о том, что грамматически верно, а что нет, хотя, конечно, применялись и другие методы. В этой парадигме ошибки и грамматически неверные суждения рассматриваются путем соотнесения с другими ментальными системами, за пределами собственно грамматической, которая считается совершенной.
Коннекционистская грамматика
Эта парадигма основана на совершенно иных принципах. Согласно коннекционистским теориям, никаких грамматических правил нет вообще, а наши ментальные способности, включая языковые, базируются на нейронных сетях. Нейронные сети – это переплетения нейронов в мозгу, где каждый нейрон связан с большим числом других нейронов.
При этом отдельные нейронные связи могут быть более или менее прочными, и чем сильнее связаны нейроны, тем больше нейрон на одном конце цепи влияет на нейрон на другом ее конце. Цепь открыта с обоих концов, поэтому вы можете вводить данные на одном конце и получать результат на другом.
Он будет зависеть от того, насколько интенсивна связь на этом участке нейронной цепи – насколько она проработана. То, как будет функционировать нейронная сеть в целом, определяется степенью проработанности отдельных ее участков – прочностью нейронных связей.
И в этой сети, согласно коннекционистским теориям, заключена вся грамматика. На одном конце мозг вводит то, что вы хотите сказать, на другом возникает готовое высказывание. А потом процесс повторяется в обратном порядке в мозгу слушающего. То, на каком языке мы говорим, также определяется интенсивностью нейронных соединений. Нельзя указать то место в нейронной сети, которое отвечает, скажем, за образование множественного числа существительных. Каждое грамматическое правило покрывает всю сеть, в которой одни нейронные связи проработаны лучше, чем другие.
Искусственные нейронные сети, где вместо нейронов используются их смоделированные компьютерные аналоги, широко применяются в технологиях искусственного интеллекта. Особенно при «обучении» компьютера распознавать шаблоны или изображения. Вы, наверное, имели дело с приложениями, умеющими распознавать лица на фотографиях. Ядром такого устройства, скорее всего, является искусственная нейронная сеть.
Еще одна отличительная черта нейронной сети заключается в том, что для нее не существует проблем, как обходиться с ошибками и вариативностью. Скорее наоборот, ее трудно заставить вести себя в соответствии с жесткими правилами, которые все-таки составляют основу грамматики.
Особенно труднообъяснима с позиции коннекционистской грамматики связь между словами, далеко отстоящими друг от друга в предложении, равно как и многоуровневые конструкции с «вложенными» друг в друга придаточными предложениями.
Если рассмотреть наш мозг на микроуровне, он действительно состоит из множества нейронов, связанных каждый, в свою очередь, со множеством себе подобных. И в этом пункте коннекционизм внушает доверие, поскольку учитывает реальную структуру мозга в большей степени, нежели другие парадигмы. Но вопрос не в нейронных сетях как таковых, существование которых никто не подвергает сомнению, а в том, насколько хорош этот уровень для описания человеческого языка, что далеко не так однозначно.
Функционалистская грамматика
Третья парадигма в нашем списке функиционалистская, и уже из одного названия следует, что она перемещает фокус внимания на коммуникативную функцию языка и лишь во вторую очередь рассматривает грамматические правила.
Этой парадигме без малого сотня лет. В 1960-е годы ее позиции значительно поколебала генеративная грамматика. Но функционализм выстоял, продолжает жить в некоторых странах и, можно сказать, даже пережил ренессанс с появлением когнитивной лингвистики и системно-функциональной и конструкционной грамматики.
Основные постулаты функционалистской парадигмы в своих основах прямо противоречат тому, что утверждает генеративная грамматика.
Эта парадигма рассматривает грамматику не как отдельный модуль, а как одну из функций наших общих ментальных способностей и концептуального аппарата. То есть грамматика не существует независимо, она – продукт понятийного аппарата и того, как понятия связаны друг с другом.
Язык – это динамический процесс, который формируется во взаимодействии с нашими мыслями. Когнитивная грамматика привлекательна во многих отношениях, так как лучше других парадигм отвечает гибкости человеческого языка и подходит для описания нашей насыщенной метафорами речи. В то же время из нее трудно вывести достаточно четкую грамматическую теорию, содержащую как анализ грамматики, так и объяснение ее происхождения.
Конструкционистская грамматика содержит довольно строгую грамматическую теорию, которая является частью функционалистской парадигмы и философски близка когнитивной лингвистике, хотя исторически уходит корнями в генеративную парадигму.
Отправным пунктом конструкционистской грамматики является наш ментальный лексикон. Ни у кого не вызывает сомнений, что, помимо слов, он содержит множество идиоматических выражений. «Сыграть в ящик»[26] – не название игры. Я, во всяком случае, такой игры не знаю. Это выражение означает «умереть», хотя ни ящик, ни игра не имеют к смерти никакого отношения. Поэтому в ментальном словаре такие сочетания не разделяются, как и в толковом.
Конструкционистская парадигма вообще не отличает грамматику от идиоматических выражений. Для нее все это – выражения или конструкции. Простейшие выражения – это отдельные слова, совсем как в обычном словаре. Потом идут устойчивые сочетания слов, всегда употребляющиеся в одной форме – «по большей части», «будьте добры» и т. п. Следующая стадия – выражения с вариабельными частями. «Сыграть в ящик» – хороший пример, потому что отдельные части выражения могут меняться.
Он сыграл в ящик. Она сыграла в ящик
Можно придумать другие варианты, где форма глагола будет меняться в зависимости от субъекта действия.
Между субъектом и действием остается свободное место для некоего необязательного слова, скажем, наречия «быстро»: он быстро сыграл в ящик
То есть конструкция представляет собой не просто инфинитивное словосочетание «сыграть в ящик», а шаблон: субъект + (наречие) + глагол «сыграть» в нужной форме + «в ящик». Скобки указывают на необязательность наречия или какого-либо другого компонента. При этом по мере того, как добавляются такие «необязательные» члены, конструкция становится все более абстрактной, «размывается».
То, что в других парадигмах называют грамматическими правилами, в конструкционизме рассматривается как абстрактные конструкции.
В конструкционистской грамматике нет правила, что в повествовательном предложении нормальный порядок слов предполагает последовательность «субъект – глагол – объект». Вместо этого есть конструкция «субъект – глагол – объект» и множество других конструкций, которые уточняют, как конкретно может конструироваться субъект и другие компоненты.
Хоть эти абстрактные конструкции внешне и неотличимы от обыкновенных грамматических правил, логика грамматического мышления здесь совсем другая.
Пазл-коммуникация самым естественным образом вписывается в рамки функционалистской парадигмы. Здесь речь идет уже не только о «кодировании» и «декодировании», но и об активном использовании наших ментальных возможностей.
Особенно это подчеркивает когнитивная лингвистика. Многие на первый взгляд грамматически неправильные факты неформального употребления языка выглядят вполне естественными следствиями ее основных положений. В самом деле, почему бы говорящему не упустить часть фразы, которую слушающий может легко восстановить из контекста?
Лингвистические вариации и развитие языка также без проблем вписываются в эти рамки. Существует даже разновидность конструктивистской грамматики – «Грамматика плавающих конструкций», методы которой активно используются в некоторых исследованиях, связанных с эволюцией языка.
Грамматические теории и происхождение языка
На самом деле грамматических парадигм гораздо больше. Я ограничился тремя: они наиболее отвечают целям этой книги. Не стоит забывать, что в рамках каждой из парадигм бытуют ее различные версии и каждая из этих теорий имеет своих сторонников и последователей. При этом ни одной не удалось завербовать в свои ряды подавляющее большинство лингвистов. Каждую из парадигм по-прежнему активно исследуют, а теории со временем развиваются и уточняются.
Что касается вопроса происхождения языка и прежде всего, конечно, грамматики, то здесь многое будет зависеть от того, происхождение какой грамматики мы хотим уяснить. Происхождение генеративной грамматики требует ответов на совершенно иные вопросы, нежели коннекционистской или конструктивистской.
В рамках генеративной парадигмы речь идет прежде всего о происхождении грамматического модуля. Его используют исключительно в лингвистических целях и рассматривают как целостное единство, которое не могло создаваться частями. Поэтому его возможная эволюция для науки довольно крепкий орешек.
Зато у коннекционистской парадигмы нет таких проблем – наш мозг все еще оплетен нейронными сетями. Вопрос скорее в том, почему человечество так усиленно развивало нейронные цепи, ответственные именно за грамматику, и как развивались эти сети, прежде чем сложились в очевидную иерархию. Не в последнюю очередь ученых интересует, для чего человечество вкладывало в это столько энергии, другими словами, зачем нам понадобился такой сложный мозг?
В когнитивной лингвистике язык – естественное следствие применения наших общих ментальных способностей к социальному взаимодействию и заложенному в нас стремлению общаться друг с другом. В этом контексте фокус внимания перемещается скорее на когнитивную и социальную эволюцию. Вопросы, как появилась и развивалась грамматика, отдельного объяснения не требуют.
Конструкционистская грамматика исследует прежде всего грамматический аппарат, то есть конструкции, и в этом отношении похожа на генеративную грамматику. При этом грамматический аппарат не изолирован, подобно модулю генеративной грамматики, и делится на множество мелких компонентов, которыми можно заниматься порознь. Поэтому вместо проблемы происхождения неделимого модуля у нас есть множество менее масштабных проблем, к которым легче найти подход со стороны теории Дарвина.
Язык других существ?
Пчела возвращается в улей. Она искала цветы и нашла на клумбе неподалеку довольно много растений. Однако пчела не справится в одиночку, прежде чем цветы засохнут. В улье пчела забирается на один из сот и начинает танец – мечется по сотам из стороны в сторону, «восьмеркой» и по диагонали, покачивая нижней частью тела. Остальные пчелы окружили ее и как будто смотрят. Когда танец заканчивается, они дружно покидают улей, направляются прямиком к клумбе и собирают богатый урожай нектара и пыльцы.
* * *
Как они узнали, где искать цветы? Они «вычитали» это из танца первой пчелы. В нем были движения, которые работают как код. Если пчела перемещается вверх по сотам, цветы нужно искать в направлении солнца, если наискось в правый верхний угол – справа от солнца. Чем дальше продвигается пчела в определенном направлении, тем дальше цветы, и так далее. Этот танец довольно подробно описывает путь к еде.
Но можно ли считать его языком? Ведь танец пчелы обладает важными признаками языка: он передает сложное сообщение и сам состоит из отдельных компонентов. Наконец, речь в нем идет о том, чего нет здесь и сейчас.
При этом в «языке» пчелы отсутствуют важные лингвистические характеристики. Во-первых, в нем скудный набор сообщений, которые можно передать. Во-вторых, он врожденный и совсем не отличается гибкостью в отношении как сигналов, так и их значений. Этот язык танца хорошо подходит для своих ограниченных целей. Но это эволюционный тупик: язык в полном смысле этого слова едва ли возможен на основе танцевальных движений.
Зачем же мы в таком случае забрели в этот тупик, да еще и к существам, имеющим к нам весьма отдаленное отношение? Да потому что понять приемы коммуникации других существ – один из способов пролить свет на происхождение человеческого языка.
В этом отношении особенно интересны способы коммуникации, разделяющие с языком его некоторые ключевые особенности. Они могут кое-что рассказать нам о происхождении различных свойств языка. В этом разделе мы рассмотрим некоторые из них.
* * *
Самец соловья заливается на ветке в весеннем саду. В его песне можно различить множество звуков, которые комбинируются по-разному, образуя постоянно меняющиеся узоры. Среднестатистический соловей использует около 250 звуков, что намного больше звуковой палитры любого человеческого языка. Кроме того, его репертуар состоит примерно из 180 «строф», сочетания которых образуют длинные звуковые последовательности.
* * *
Сам я большой поклонник соловьиного пения и в этом не одинок. Не так-то много птиц вдохновило поэтов на такое количество стихов, сколько их сложено о соловье. Вот что писал о ночном певце шведский поэт-романтик Юхан Стагнелиус.
Соловей, красавец дивный,
Сумеречный менестрель,
Серебристых звуков трель
Полнит парки и долины.
При этом у самого соловья иная цель, нежели попасть на страницы лирических сборников. Самцы соловья поют, потому что самки любят поющих самцов. И компонуют сложные трели из множества звуковых последовательностей только потому, что так любят самки.
Чем замысловатее песня, тем больше у соловья шансов найти самку, и это – мощный стимул развивать врожденные способности. Самец, который поет плохо, никогда не станет папой, поэтому у соловьиных птенцов очень музыкальные отцы и матери – истинные ценительницы певческого дара.
Но можно ли считать птичье пение языком? Как и в случае танца пчелы, ему свойственны некоторые черты из списка Хоккета. К примеру, сложение «строф» из звуков и трелей из «строф» напоминает конструирование слов из звуков и высказываний из слов. Причем у каждой птицы свои правила комбинирования звуков, то есть своя «грамматика» пения. При этом между языком и соловьиными трелями есть одно фундаментальное различие – птичье пение в принципе служит для передачи одного-единственного сообщения, вне зависимости от комбинации звуков. «Я здесь! – объявляет пернатый самец. – Здесь мое место. Послушай, как я пою. Я буду просто фантастическим отцом твоим детям».
Репертуар трелей может быть сколь угодно разнообразным, но сообщение от этого не меняется. В противоположность фактически бесконечному числу сообщений, которые способна генерировать комбинаторика человеческого языка.
При этом пение соловья в отличие от танца пчелы чисто теоретически обладает не меньшим выразительным потенциалом, чем человеческий язык. Чего не хватает соловьям, так это гибкой связи между формой сообщения и его содержанием. При этом интеллектуальные возможности по крайней мере некоторых птиц позволяют им научиться связывать звуки с определенными значениями, а это важное условие для развития языка.
Вот только ни одна из птиц так и не сделала шаг в эту сторону. Возможно, эволюция наложила на соловьев ограничение: песня целиком представляет собой одно сообщение. И соловей, который первым начал бы дробить трель на отдельные значимые части, потерял бы всякую привлекательность в глазах самок и не оставил бы потомства.
* * *
Две каракатицы, самец и самка, кружат возле кораллового рифа в теплой морской воде у берегов Ямайки. Обе меняют цвет во время танца, но тут появляется еще один самец и направляется к танцующей паре. Первый самец становится между самкой и чужаком. Часть тела, которая обращена к непрошеному гостю, покрывается озлобленно яркими полосам. Между тем как на другой части, направленной на самку, по-прежнему сменяют друг друга спокойные, можно сказать, куртуазные узоры. Чужак также покрывается полосами: он готов к битве.
* * *
Каракатицы Septioteuthis sepioidea общаются друг с другом, меняя окраску, как и хамелеоны. При этом их язык несколько сложнее, чем у хамелеонов, и состоит из нескольких различных сообщений. На теле каракатиц может проявляться множество узоров, и нам известны значения лишь некоторых из них. Полоски – знак агрессии, некоторые узоры сигнализируют любовь, но большинство из них могут расшифровать только сами каракатицы.
Являются ли эти узоры частью языка? Мы не знаем. Теоретически вполне вероятно, что язык может состоять из визуальных образов, а не из звуков. Читая книгу, вы воспринимаете язык через визуальные образы, и это хорошо работает. Язык жестов, где «говорящий» что-то показывает «слушающему», также визуальный. И это полноценный язык, со всеми свойствами и характеристиками, которыми обладает разговорный, плюс некоторыми другими.
Система знаков, которой пользуются каракатицы, вполне может функционировать на том же уровне сложности, что человеческий язык. Но мы слишком мало знаем о том, как она устроена. Каракатицы вообще очень умные существа, особенно если сравнивать их с ближайшими родственниками – мидиями и улитками. Они способны решать довольно сложные задачи, как в природе, так и в лабораторных условиях. Каракатицы могут пользоваться различными инструментами, и их бывает непросто содержать в неволе: они находят способ выбраться из аквариума. На «Ютубе» есть видео, где маленькая каракатица, запертая в обычной банке из-под варенья, выбирается на свободу, изнутри откручивая крышку своими щупальцами. До сих пор нет никаких доказательств, что социальная жизнь каракатиц сложнее, чем прочих бессловесных тварей. Может, им просто не нужен язык, для развития которого у них есть все технические предпосылки.
* * *
Маленькая карликовая зеленая мартышка сидит под акациевым деревом в Танзании и ест упавшие семена. Другая обезьяна в стае кричит – издает несколько коротких писклявых звуков. Первая мартышка бросает семена и взбирается на дерево – как можно выше, на самую тонкую ветку. Все остальные, кто был на земле, делают то же самое. И там, в безопасности, дожидаются, пока леопард уйдет восвояси. Писклявые звуки сигнализировали не что иное, как появление леопарда.
Проходит время, а маленькая мартышка все еще остается на дереве. Леопард давно ушел, но на ветках достаточно еды, поэтому слезать незачем. И тут с другого дерева раздаются звуки, похожие на приглушенное мычание. Мартышка быстро слезает и прячется в ближайших кустах, потому что поблизости объявился орел и «мычание» извещает именно об этом.
Эти мартышки, как и многие другие животные, предупреждают сородичей об опасности определенными звуками. Но их крики не просто сигнал опасности, в них разъясняется ее специфика. Лучший способ спастись от леопарда – залезть на дерево. Но это верная гибель, если опасность в воздухе.
Можно ли считать предупреждающие об опасности звуки языком? У них есть общие с человеческим языком черты. В отличие от соловьиного пения, в воплях мартышек более конкретная информация, которая зависит от звука. При этом число сообщений все же очень ограничено, равно как и их сложность. Этим предупреждающие звуки мартышек похожи на пчелиный танец. Кроме того, они сообщают только о том, что происходит здесь и сейчас. Мартышка не может использовать характерный «писк», чтобы обсудить с сородичами леопарда, который чуть было не схватил ее вчера, или спросить, не кажется ли им, что за кустами в джунглях прячется леопард.
Предупреждающие звуки врожденные. Но молодые мартышки должны научиться правильно использовать их в нужных ситуациях. Иногда случаются и ошибки.
Похоже, лингвистическому развитию мартышек мешает лишь то, что они не могут просто взять и расширить свой словарный запас. У них нет иного способа добавить в лексикон новые вопли с новыми значениями, кроме как путем длительного эволюционного развития. О «гибкости» говорить тем более не приходится, когда речь идет о звуках, предупреждающих об опасности. Использовать их в других целях все равно что повторять ошибку пастуха, который кричал «Волки! Волки», когда никаких волков поблизости не было. Все мы помним, чем закончилась эта история – ему просто перестали верить.
Все это блокирует развитие языка мартышек.
* * *
Стая дельфинов плавает в океане неподалеку от филиппинского острова Бохо́ль. Приблизившись к небольшому коралловому рифу, она распадается, и дельфины принимаются искать рыбу. При этом они перекликаются при помощи множества разнообразных свистящих звуков. Какая-то часть их словаря используется всеми. При этом у каждого дельфина есть собственная «мелодия», что-то вроде позывного, которая при случае объявляет: «А вот и я!»
Дельфины узнают «звуковые подписи» сородичей и благодаря этим сигналам могут поддерживать связь, даже теряя друг друга из вида в коралловом лабиринте.
Вот дельфин, который некоторое время был вдали от стаи, возвращается. Приближаясь, он «насвистывает» свою «мелодию», и друзья отвечают каждый своими «позывными». Таким образом они подтверждают, что помнят его, и одновременно дают знать, где они. Во многих отношениях звуковая «сигнатура» работает как имя дельфина. Дельфины узнают «мелодии» друг друга, даже в записи, так что голос здесь не решающий фактор. И используют их не только для того, чтобы заявить о себе, но и окликнуть друг друга, воспроизводя не свои «мелодии».
Но вот за коралловым массивом появляется акула. Один из дельфинов обнаруживает ее при помощи своего «эхолокатора»[27], поворачивается к соплеменникам и отправляет сигнал – репрезентацию волнового «эха», пришедшего от акулы. Дельфины понимают предупреждение, собирают детенышей и отводят их в безопасное место.
* * *
У подавляющего большинства животных есть приспособления для общения с себе подобными. Иногда они очень просты. Например, белизна лебедя-шипуна, заявляющего тем самым: «Я – взрослый лебедь!» Или душистое вещество, которое распыляет самка бабочки, чтобы привлечь внимание самца.
Судя по всему, такие коммуникации совершенно бессознательны. При этом ни у бабочки, ни у лебедя нет выбора, отправлять или не отправлять сообщение всем находящимся поблизости. Изменить содержание сообщения они также не могут. Разве что лебедь, который, взрослея, меняет серое оперение на белое.
Но, как видно из примеров выше, способы коммуникации в животном мире могут быть по-своему изощренными. И им могут быть присущи некоторые качества человеческого языка. Пчелы, как и птицы, складывают свои сообщения из множества компонентов. И по крайней мере в случае пчел содержание сообщения зависит от того, из каких компонентов составлен сигнал.
У обезьян, дельфинов и каракатиц есть сигналы для социального общения в стае или между отдельными особями. При этом обезьяны, дельфины и пчелы способны передавать друг другу сигналы, отсылающие к чему-то или кому-то за пределами круга общения, то есть указывать на хищника, еду или дружественное животное. Все эти качества присущи и человеческому языку.
Наши ближайшие родственники среди обезьян могут общаться при помощи немногих звуков и несколько бóльших жестов. В отличие от предупреждающих криков макак, которые работают как код, общение шимпанзе происходит скорее в режиме пазл-коммуникации. Их жесты, насколько мы можем судить со стороны, не имеют жесткой привязки к определенным значениям, но используются для передачи разных сообщений, в зависимости от контекста ситуации. То есть «слушающему» нужно еще истолковать, что означает тот или иной жест при конкретных обстоятельствах.
Большинство характеристик человеческого языка соответствует характеристикам по крайней мере одного вида животных. Весь список Хоккета разбросан по всему звериному царству. При этом ни один вид, кроме Homo sapiens, не обладает полным набором. И главное, что отличает человеческий язык и не свойственно ни одной из животных коммуникаций, – это безграничные возможности для выражения всех мыслимых сообщений.
Или же мы ошибаемся на свой счет? Давайте ненадолго вернемся к дельфинам.
* * *
В воде дельфины постоянно испускают звуковые сигналы и улавливают эхо, возникающее при отражении сигналов от препятствий. Совсем как эхолокатор на судне. Радары устроены по тому же принципу, только с радиоволнами вместо звуковых. Дельфины виртуозно управляются со своим «эхолокатором» и могут обнаруживать с его помощью в воде довольно маленькие предметы или плавать на высокой скорости, даже в мутной воде, не натыкаясь на препятствия, которых в море более чем достаточно. Разумеется, у дельфинов есть глаза. Но в естественной среде они ориентируются прежде всего при помощи «эхолокатора».


