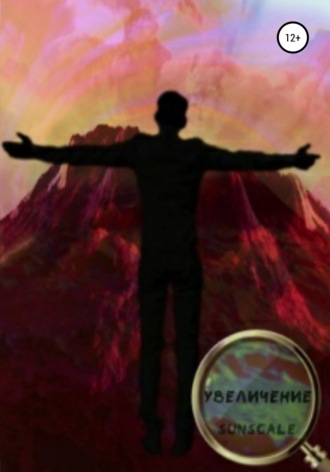
SunScale
Увеличение
Глава 2. Открытия.
Было шумно. Все разговаривали одновременно, и иногда даже казалось, что они болтают в моей голове. Ровно до того момента, как возник он – гораздо большего размера, чем все, кого я видел раньше, видимо, виновник этой встречи. Дед занял место в первом ряду, разделяя круг почти пополам.
Я понял, почему его называли Дедом, хотя, ручаюсь, никакой родственной связи у него ни с кем из нас не было. Он просто был стар. Я даже на таком значительном расстоянии мог увидеть, как его руки трясутся и как искрятся его седые волосы.
Я знаю, что старость никогда не являлась синонимом мудрости, но движения Деда, его пронзительный взгляд, его черты… Даже то, как он медленно опустился в подготовленное для него кресло и то, как стихли голоса общительных трещоток вокруг, говорили громче его возраста – у Деда было влияние. И оно не знало границ.
Дед обвел всех взглядом и не спешил начинать речь. Властвовала гнетущая тишина.
Я посмотрел вокруг. Все, абсолютно все, повторяли мое движение – осматривались, ища причину столь длительного молчания.
Дед закашлялся. Если эти клокочущие звуки, вылетающие из его рта, можно было назвать кашлем. На его мутных глазах выступили слезы и он, поспешно сморгнув их, вновь посмотрел на всех, будто только что понял, что разговор следует начинать ему.
– Я так рад видеть вас всех тут. Вас так много, что я, право слово… Не ожидал. И вы все так молоды, так амбициозны. Смотреть на вас – наше продолжение – отрада для меня!
Я насторожился. Слишком сентиментально. Дед, правда, перебарщивает в своем дружелюбии.
– Я видел много поколений… Возможно, я знал ваших предков. Возможно, я застану ваших детей, но вы – те, кто появились сейчас – это лучшее, что я видел… Столько новых лиц, столько великолепных форм… Я верю, что наше общество впредь в надежных руках. В ваших надежных руках.
Я едва сдержал порыв закатить глаза. Я не верил ни одному его слову.
Потому что я знал себя. И знал их. Они такие же, как я, и я такой же, как они. Мы никогда не были дружелюбны. Наши черты – это хитрость и эгоизм, и чернота живет в каждом из нас. Я не верю, что Дед, тетушка Розанна и еще кто-нибудь смогл обуздать свои врожденные качества и превратить их в нечто настолько честное и порядочное. Я не верил им. Я знал, что под них оболочкой скрывается то, что не запрятать, то, что дано нам природой – характер. Верил ли я кому-то? Да. Уоррингтону. Он один бросил нам в лицо то, что другие молча переварили. Хотя я не хотел вспоминать этот инцидент с неполагающимся нам куском сахара, но здравым умом я понимал: он поступил честно. Другие – лгут. Даже Ленни, который, я мог видеть, нашел сестру и устроился с ней максимально близко к Деду и теперь впитывал каждое его слово как губка. Он слишком быстро акклиматизировался. Я – был настороже.
Тем временем Дед продолжал:
– Сегодня мы собрались здесь не только затем, чтобы вы порадовали своим количеством старика, но и для того, чтобы я поведал вам то, что знаю лучше всех, потому что я многое видел своими глазами. Я расскажу то, о чем вы должны знать раньше, чем это случится.
Все притихли еще больше, хотя никто и так не произнес ни слова с начала монолога Деда. Теперь все перестали даже шевелиться.
– Война. Должно быть, вы уже слышали это слово?
Все согласно замычали. Тетушка Розанна кивнула, видимо, подтверждая, что о Войне она упоминала, не вдаваясь в подробности.
– Так вот… Война – это то, что случается с нами с завидной регулярностью. Я помню, как все начиналось, – тут от Деда повеяло такой меланхолией, будто он окунулся в свои воспоминания, как в воду. А потом, вынырнув из нее, он вновь стал молодым. От старика, пришедшего к нам, не осталось и следа. Его дальнейшие слова лились мягким потоком, чистым. Так, что даже я на секунду растерял свою бдительность и купился. – Я не знаю, сколько мне сейчас лет. Да и никто не знает. Но я помню время… Вернее, мое ядро клетки помнит время, когда Войны случались впервые. Тогда был жар – все горело у нас под ногами и над головой. Я, в те времена, не жил тут. Мы с моей общиной много путешествовали и много где были, и везде, в каждом месте Война была смертью для большинства из нас. Выживали единицы. Я был этой единицей. Оружие, что по нам било, было не остановить. Оно знало наши слабые места и стреляло по ним. Каждая Война становилась последней. Однажды я остался один, и я… Оказался тут. И это мне казалось лучшим местом на земле – я вновь не был одинок. Нас становилось все больше, а Войны – меньше. Я много думал над этим, но я …так и не нашел ответ, когда именно все изменилось…
Тут Дед вновь постарел, словно выпустив из рук машину времени, он снова стал невыносимо древним.
– Война стала другой. Я хочу сказать вам, – его голос стал суше и оттого строже. – Война – это не смерть. Уже нет. Поэтому я призываю вас ее не бояться. Я заклинаю вас не бояться ее!
Дед, приложив усилия, смог встать на ноги и продолжать свою речь уже стоя. Так он казался гораздо выше. Его тело, омываемое светом и воздухом, возвышалось горой посреди равнины. Я знал, что каждый звук его голоса ловится и откладывается на долгое хранение не только в моей голове.
– Война делает нас сильнее. Чтобы понять это, мне следовало не только прожить так много времени, но и быть внимательным. Я видел, как Войны делают нас сильнее. Я знаю, что наши слабые места затягиваются с каждой новой атакой, и однажды мы добьемся того, чтобы наше общество стало совершенным и бесстрашным. Но для этого мы должны держаться вместе. Слабые места у всех разные.
Дед снова просканировал нас взглядом.
– Но есть особые личности, чей род сходен с моим, и мы становимся закалёнными чуть быстрее.
Его взгляд остановился на мне.
Я тяжело сглотнул, а Дед все смотрел.
– Мы должны помогать друг другу! Только в условиях взаимопомощи и ответственности мы можем не бояться Войны. Более того, мы должны молиться, чтобы она случалась как можно чаще, чтобы мы стали сильнее как можно быстрее!
Дед замолчал и присел, выдыхаясь.
Его взгляд перестал сковывать меня, и я заерзал на месте. Неуютно! Ненавижу, когда меня вытаскивают из зоны комфорта!
Я рад был бы сказать, что ничего не понял из его речи. Я был бы счастлив не понять ее, как не понял тогда местоположение нашего пикника, и я бы даже мог соврать самому себе, если бы не осознание, смывшее мою ложь, как пролетевшая внизу река.
Наша память – сложноустроенная штука. Некоторые знания мы обретаем сами. Некоторые доступны нам от рождения. Будто инстинкты. Возможно, для того, чтобы оказавшись в одиночестве, мы смогли выжить. Так вот, рассказ Деда соответствовал в точности моим врожденным знаниям. Я понял каждое его слово и, видимо, с этого момента я перестал различать информацию, добытую мной от той, что уже была у меня, и мне было нужно лишь вовремя ей воспользоваться.
Те враги, большие Боссы, что показывала нам тетушка Розанна, уже были известны чему-то внутри меня, и я понял бы, что их нужно остерегаться даже без красочного описания того, как их гигантский рот окружает, а затем переваривает нас. Я уже знал это. Мои предки знали это. И те, кто придут после, будут знать. Пока я понятия не имел, как зовутся другие, нарисованные там враги, но я был уверен – стоит мне встретиться с ними, как ни секунды не думая, драпал бы от них так что только пятки сверкали.
Как это называется? Генетическая память? Встроенные настройки? Это делало меня тем, кем я являюсь в этом мире. Я был соткан из этих знаний.
И Война. Я никогда не видел ее. Дед не дал ни одного описания, но я представлял это. Отравленная земля. Отравленные дома. Отравленная еда. Жар. Огонь. Тучи обнаруживших нас врагов и борьба – за жизнь, за себя.
Одно не увязывалось – Дед предлагал воевать за всех, а этого не было в моих знаниях. Неужели это плод больной фантазии старика?
Погодите-ка… Старика?
Я не знал, как тут считают время, но я знал, что наша жизнь не предполагала старение. Наше время всегда было ограничено, и состариться мы не умели. Нормальные мы – не умели. Потому что мы умирали в самом расцвете сил, а наша популяция тем самым становилась больше. Это не было грустно или тревожно. Это было правильно. А старение Деда было ошибкой – я, наконец, понял это. Дед был болен?
Я, ища подтверждение своих слов, отыскал его взглядом. Дед, улыбаясь, начал передавать лакомство вправо от себя. Ленни с сестрой – влево. Порция передавалась из рук в руки, пока сидящий максимально далеко от Деда и Ленни, не получал свою. Только тогда они передавали вторую порцию, но та так же не задерживалась в руках надолго, отправляясь к сидящим позади.
Эх, знал бы я их порядки – сел бы дальше, так, чтобы моя часть еды уже оказалась в руках. Пока до нас, до отшельников, создающих третий ряд, дошло первое по счету лакомство, я заходился в нетерпении. Оно приковывало к себе мой взгляд. И мне так хотелось, так хотелось оставить его себе сразу же. Передавать дальше? Сидящим за мной? Пощадите! Их же там целая компания! Мне что, еще несколько раз отпускать от себя, так и не попробовав, это великолепие?
Я сглотнул накопившуюся слюну. Они издеваются надо мной!
Когда лакомство оказалось в моих руках, я лишь успел увидеть красновато-коричневый цвет и уловить тонкий источаемый аромат, как пришла пора передать его. Мне казалось, что все замерли, ожидая мое решение. Я физически чувствовал на себе голодный взгляд тех, кто сидел дальше меня. Они ждали.
Я боролся с искушением.
Оставить его себе и вновь опозориться? Я не хотел снова ощущать стыд, поэтому, не без сожаления, положил лакомство в протянутые ко мне руки. Но я не кривил душой – мне не хотелось его отдавать.
Вокруг было тихо и томно. Все размышляли над словами Деда и, я уверен, все принялись выуживать из себя врожденные знания. Не знаю, почему это произошло только сейчас: быть может, раньше мы были слишком молоды или глупы, а может, виной всему была царившая атмосфера единства. Как бы мне не нравилось это слово, но оно лучше всего описывало происходящее.
Я понял, почему первая группа выглядела мудрее. Сейчас они не были настолько удивлены, как мои ровесники, и это значило, что они уже знали. Или догадывались. Или и то, и другое.
Я предпочитал думать, что я не глупее их, как мои одноклассники, а эти знания стали доступны сейчас, потому что это я им разрешил стать доступнее. Я в них впервые начал нуждаться.
Наконец-то в моих руках вновь оказалась вкусность красно-коричневого цвета. Я съел ее, и на секунду, пока чувствовал великолепный вкус, забыл думать о памяти, Войне и о странном внимании Деда, обращенном на меня.
Порядки и правила у них не очень, но кухня что надо.
***
Вскоре мне надоело сидеть, и я решил пройтись. Меня не тянуло к новым знакомствам, я не хотел общения. К тому же за сидящими впереди меня мне со своего последнего ряда было плохо видно происходящее в круге, где Дед, усевшись на землю, поедал свою порцию (к слову, одну единственную, льгот ему, видимо, не полагалось) и почти по-дружески болтал с сестрой Ленни.
Я быстро решил, что Дед странный, и поглядывает он на меня необычно, так что мне подумалось, что лучше уйти с насиженного места и пройтись.
Мир же огромен, и он не ограничивается одной лишь поляной, где ели и говорили, лебезили друг перед другом и где каждый играл свою роль. Мы – роль детей. Дед – роль старейшины. Тетушка Розанна – учительницы. Сэр Коррингтен и его команда – добытчиков еды. Война и боссы – опасностей. А уважительное и доброжелательное общение – фикцией.
Я знал, что моя память поможет мне выжить не только на этой поляне, но и в любом другом месте, где не будет надобности искать смысл и разгадывать загадки в их словах, подозревать и ждать подвоха, будет достаточно лишь выживать, чтобы чувствовать себя счастливым.
Такова моя природа. И их. И я не понимаю, что мы все тут забыли?В сердцах я пнул белый камень, находившийся чуть поодаль.
Я отошел достаточно далеко, чтобы увидеть открывающееся передо мной пространство. В вечернем сумраке из розового оно стало отдавать синим, наверное, виной тому опустившаяся на мир ночь. Кратеры были на месте, но из-за сумрака стали почти неразличимыми, а редкие и относительно невысокие холмы были далекими и, если представить, несуществующими. Рек больше не было, от чего воздух был натянутой тишиной. И эта тишина была правильной, не той, что та, которая возникла от благоговения перед Дедом.
Мне нравилось одиночество до тех пор, пока я не увидел ее. Я заметил ее издалека, но случайно, повернув голову. Наверное, если бы это была не она, я бы ушел. Растворился, сбежал бы со всех ног, лишь бы никто не испортил мое одиночество, но от нее не хотелось бежать. К ней хотелось идти.
Она была еще далеко, но мысленно я уже дорисовал ей короткие ярко-рыжие волосы, длинные стройные ноги и руки. Тонкие, с хрупкими запястьями и просвечивающими венами.
На нашем небе никогда не было звезд. Но на моем одна из них появилась.
– Привет, – произнесла она, как приблизилась.
Я, не смея моргнуть, ответил:
– Здравствуй.
Ей не хотелось грубить. Быть может, виной тому свет, который она источала собой. Нет, она была этим светом.
Ее огненно-рыжие волосы замечательно контрастировали с темнотой, она был такой яркой, что я удивился, почему не встречал ее раньше.
– Как твое имя, незнакомец? – спросила она, подходя ближе. Так непозволительно близко, что я мог рассмотреть каждую ее веснушку, если бы они у нее были.
– Али, – ответил я. Полную версию своего дурацкого имени ей говорить не хотелось, при ней оно звучало еще ужаснее, чем изначально.
Она как-то загадочно улыбнулась.
– Друэлла, очень приятно познакомиться.
Я, не кривя душой, признался, что мне тоже. И сразу же предложил ей сокращенный вариант ее имени.
– Дру? – удивленно переспросила она. – Что ж, мне нравится. Так и запишем.
– Куда запишем? – не понял я. Рисунки были доступны моему пониманию, но зачем их было делать из ее имени, я не знал.
– В книгу учета, конечно же, – ответила она. – Когда меня не станет, они смогут использовать его повторно.
Не знаю, что меня к ней потянуло. Я видел ее красивой – это было бесспорно, но красота в моем воображении и в нашем мире мало что значила. Скорее всего то, что она была загадкой. А я любил их.
Я, быстро порывшись в памяти, не нашел там ни единого упоминания о подобных книгах, свободе имен или чем-то подобном, это значило то, что эта информация либо новая, поэтому мои предки не успели сохранить ее для потомков, либо она неважная. Оба варианта подталкивали меня продолжить общение с ней.
– Что такое книга учета? – спросил я.
– Моя работа, – пожала плечами она и задала ответный вопрос: – А что тут делаешь ты?
Я не знал, как описать то, почему я ушел с пикника, кроме этого:
– Я не выдерживаю.
Она расхохоталась и заинтересовала меня еще больше. Знаете, смех привлекает. Особенно тот, который звучит как колокольчик и ощущается, как лучшее лакомство.
– Впервые вижу такого как ты, кто не любит рассказ про Войну. Новенькие обычно от него в восторге.
Я замялся. Я понимал, почему другим обычно нравилось – Дед умел приободрять. Новый мир открывал двери и обещал новеньким принять их. Мне же это было не надо.
– Тогда почему ты не там? – спросил я.
– Я не сегодня родилась, у меня уже есть работа, и я… – она вздохнула, – ненавижу рассказы про Войну. Во время своего пикника я сделала, в точности, как и ты – я сбежала оттуда.
Я хмыкнул. Подобное притягивается к подобному? Она не была похожа на меня. В ней не было агрессии. Я не верил словам Деда, не верил приветствиям окружающих. Но ей я поверил сразу же. Наверное, потому что она мне понравилась.
***
Мы сидели на ярко-розовом выступе, прямо перед обрывом. Внизу была река. Дру смеялась. Мне казалось, что она смеется даже больше, чем говорит. А потом вмиг становится серьезной. Она мало рассказывала мне про их, теперь нашу, жизнь, больше она говорила о том, что ей снилось бы, если бы она спала. Она говорила, что любит лакомство, но редко берет его, потому что не считает свою работу действительно заслуживающей поощрения. Дру нравится Дед, она считает его обаятельным. Да и все остальные Дру тоже нравятся. Такие как Дру, видимо, не умеют не любить. В отличие от меня.
Еще больше темнело.
Свет до нас доходил все реже, а местность, окружающая нас, начинала алеть.
Дру вздрогнула и произнесла:
– Скоро Война…
Это не звучало как предупреждение. Это не было предсказанием. Это было констатацией факта. Ей даже не было страшно, а вот мне – как-то резко стало.
– С чего ты взяла? – спросил я, оглядываясь, будто ожидая увидеть предзнаменование смерти.
– Больше красного, не находишь?
До того, как я успел ответить ей, налетел ветер, и земля вновь затряслась.
– Еще и сотрясение, – выдохнула она, проводя по своим волосам и приглаживая их. Я почти видел, как она это сделала.
– Расскажи мне про Войну, – попытался я. Неизвестность меня пугала. Я не знал, права ли Дру в своих предсказаниях. Первый опыт может быть неприятен. Особенно опыт Войны. Дру снова засмеялась.
– Дед рассказывал вам то, что необходимо, – сказала она, – а остальное поймешь сам.
Успокоила ли она меня? Нет.
Я не планировал оставить попыток выяснить.
– Друэлла! – закричал кто-то сбоку, и к нам приблизился Найссер, – наконец-то я тебя нашел! Фух, – пытался отдышаться он.
Дру встала со своего места и расправила несуществующие складки на платье.
– Что случилось, Найсеер? – деловито спросила она, будто не была той девчонкой, что пару мгновений назад ухохатывалась над глупостью моих вопросов. – Твоя смена разве еще не закончилась? Отбираешь работу у Норбертария?
– У Апполинария пополнение! – радостно воскликнул Найссер, будто пополнение не у них, а точно у него в доме. – Я живу по-соседству, вот, решил сам… Долго не мог тебя найти, подкинь мне имечко, пока малыши там не разбежались.
Дру отрепетированным движением руки щелкнула в воздухе пальцами, будто вспоминая:
– Джорджетта и Глазенгз.
– Благодарю! Мое почтение, Друэлла, мое почтение, Алибастер! – махнул нам Найсеер и засеменил прочь.
– Так вот значит, кто ты – Алибастер! – расплылась в улыбке она. – А я-то думаю, откуда Али? Али я точно никого не называла.
Это звучало настолько определённо, что я даже не успел обдумать эту мысль как следует, а она произнесла дальше:
– Ночью они редко рождаются, – заключила Дру, вновь устраиваясь на свое место, – чаще днем… Но я на всякий случай запомнила пару давно освободившихся имен, пока шла сюда. Как чувствовала.
А потом, пока я соображал, какой из вопросов бросить в нее следующим, она задумалась и с грустью выдохнула:
– Апполинарий… Я не ожидала, что он покинет нас так… скоро. Следует скорее внести его в список, потому что начинается Война.
И она, спрыгнув с насиженного нами места, поторопилась прочь, в темноту. Она двигалась не так быстро как я, но столь же четко и размеренно, она не сказала мне оставить ее одну, поэтому я решил составить ей компанию. Дру выглядела погрустневшей, и мне пришлось вздохнуть в такт с ней и ради приличия взгрустнуть.
К счастью, длилось это недолго, спустя два кратера она приободрилась, будто задвинула ящик с плохими ассоциациями куда подальше, и почти радостно произнесла:
– Зато плюс два – это нам пригодится.
Я нахмурился. Пазл в моей голове постепенно складывался.
Друэлла давала эти дурацкие имена, и я был рад, что познакомился с ней: быть может, у меня получиться подкинуть ей парочку более интересных вариантов?
– Почему ты называешь их так? – спросил я. – Тебе велит Дед или…
Дру покачала головой.
– Дед ничего здесь не велит, он лишь несет ответственность за то, чтобы мы все выжили и делает для этого то, что нужно, а я… Просто записываю тех, кто родился, и тех, кто умер, чтобы мы знали, какие имена могут быть использованы повторно.
Мы приблизились к одному из самых больших кратеров, что я видел до этого: он находился поодаль, недалеко от одного из многочисленных обрывов, но был утоплен в глубину настолько, чтобы не бояться, что его стенки рухнут.
– Добро пожаловать на место моей работы, – произнесла она и поспешила вглубь.
Светлее не становилось, но я начинал привыкать к полумраку. Вокруг нас ничего не было, голые стены, но зато впереди, подсвеченная тусклым светом была она – огромная стена, черная, с написанными на ней именами. Их было так много, что начинало рябить от множества букв и от их зачеркиваний.
Дру подплыла к стене медленно, будто уважительно, и, трепетно проведя пальцем по столбцам, нашла накарябанное имя: «Апполинарий» и, подхватив с земли оставленный для этого камень, зачеркнула его один раз. После этого она, задерживая взгляд на правой колонке чуть дольше, отыскала озвученные ей имена «Джорджетта» и «Глазенгз», тоже когда-то зачеркнутые, и перечеркнула их снова. А ниже, в самом низу столбца, написала их вновь друг за другом, давая снова жизнь, позволяя им существовать и воскресая их в памяти после того, как след предка окончательно был вычеркнут двойным перечеркиванием.
И я наконец-то понял.
– И тебе это… нравится? – спросил я, когда Дру подняла на меня свои изучающе-огромные глаза.
Мне было странно, что нечто настолько однообразное и скучное, она выполняет с такой ответственностью и таким трепетом. Она даже не сама придумывала эти имена, просто следила за их повторением, вела учет.
На мой вопрос она пожала плечами и вновь повернулась к стене, вспоминая. Она нашла свое имя – «Друэлла», чистое и, написанное, видимо, не ей самой – почерк значительно отличался. Она смело подписала в скобках рядом с ним сокращенный вариант «Дру» и, видимо, оставшись довольной проделанной работой, без тени грусти произнесла:
– Это легкая работа. Когда меня не станет, ее сможет делать кто угодно.
И я снова ничего не понял.


