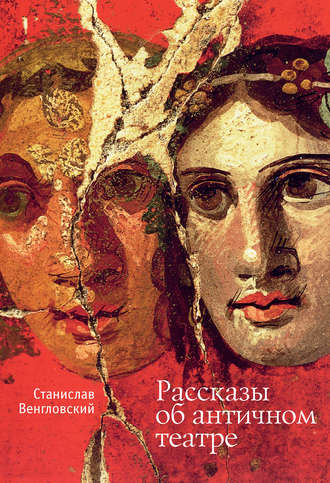
Станислав Венгловский
Рассказы об античном театре
И все же, при Аристиде Ивановиче мы сразу же ощутили себя раскованными людьми. Все пошло-покатилось по-прежнему, вольготно и беззаботно. На занятия шли мы, как правило, с веселыми, бодрыми лицами. Собственно говоря, могли обогащать себя знаниями, а могли имитировать собственные старания. Грешен, сам я пошел по линии наименьшего сопротивления, оказавшись в числе неумеренных имитаторов…
Как бы там ни было, именно Аристид Иванович поспособствовал нашему пребыванию в Ольвии.
Надо сказать, что к указанному времени вместо выбивших трех моих однокашников у нас появилось двое новых, уже упомянутый мной Александр и девушка, которую также условно поименуем Лианой, Лилей. Чтобы перевестись на наше отделение, Александр потерял целый учебный год. (Забегая далеко вперед, скажу, что ему ничуть не пришлось в том раскаиваться: в классической филологии нашел он истинное свое призвание, стал доктором наук, справедливым и требовательным, то есть – замечательным педагогом). Новички довольно быстро наверстали упущенное, так что к преддверию третьего курса могли почитаться вполне успевающими студентами.
Аристиду Ивановичу удалось договориться с эрмитажными сотрудниками, супругами Еленой Ивановной Леви и Алексеем Николаевичем Карасевым, возглавлявшими «ведомство» археологических раскопок в древней Ольвии. Археологическая практика, надо полагать, почиталась одним из элементов образовательной подготовки филологов-классиков.
Человеком, представлявшим нам, по его предположениям, античный театр, и был только что названный мной Карасев.
Для Карасева Ольвия стала чем-то вроде родного дома. Он проводил в ней раскопки еще до Великой Отечественной войны и знал там каждую земную выпуклость и каждую впадину в почве. Наверное, зимуя в Питере, современном ему Ленинграде (а жил на Московском проспекте, невдалеке от меня, мне не раз приходилось бывать у него), он отчаянно тосковал по лиману, по его водно-знойным просторам, по благодатному тамошнему теплу. Наряду с прочими своими предположениями, он и выдвинул гипотезу об ольвийском античном театре, «привязав» дислокацию его к конкретному месту…
В Ольвии началась для нас воистину новая жизнь.
Отныне мы спали на деревянном полу в большой комнате бывшего поста пограничников. Но данное обстоятельство никого из нашей компании нисколько не тяготило. Будние дни начинались с подъема, завтрака у гостеприимной хозяйки, в хате которой квартировали Елена Ивановна и Алексей Николаевич, и неспешного возвращения назад в заповедную зону, на самом высоком месте которой, на сохранившейся античной гробнице, уже развевался яркий флаг, означавший начало работ.
Что касается самих раскопок, то нам лишь время от времени удавалось здорово размяться физически, перебрасывая массу слежавшейся, исследованной земли. Большей же частью приходилось расчищать какой-нибудь определенный квадрат, либо же древний колодец, выгребную яму, перебирая, фиксируя и зарисовывая мельчайшие находки, главным образом – черепки и кости. А еще там везде отыскивалось много так называемых «дельфинчиков» – местной монеты в виде мелкой рыбешки. Дельфинчики напоминали этих умных животных, которые, по верованиям древних греков, обладали даром пророчества и одним прыжком способны были не только вырваться из морских глубин, но и занять себе вполне достойное место среди высоких небесных созвездий.
Черепков там повсюду имелось в достатке. Иногда они образовывали довольно затейливую картинку, на основании чего у нас выработалась забавная шутка. Из лета в лето, из сезона в сезон, пожалуй, передавалась история о «животике» кентавра. Составные части этого получеловека, полуконя всячески стремилась разыскать Елена Ивановна, ученица легендарного для нас Б.В.Фармаковского, чтобы получить, наконец, полноцветное изображение его, помещенное на расписном сосуде, выделке местных, ольвийских гончаров…
Обеденный перерыв у нас продолжался довольно долго. Календарное лето, повторимся, было уже на излете, но приближения осени в том благодатном крае так и не чувствовалось до конца всего теплого сезона. Погода стояла отличная, ровная. За время нашего пребывания лишь однажды на синее небо набежали легкие перистые тучки. Да и они продержались не более часа, не выдавив из себя ни капельки влаги, и как-то бесследно растаяли.
Проработав весь день на свежем открытом воздухе, остававшееся время суток мы могли посвящать занятиям спортом, что и делали, более всего предпочитая игру в футбол, именно – стоянию «на воротах» на фоне кирпичного сарая, тогда как другие «полевые рабочие» пытались забить «вратарю» безответный гол. Помнится, стоять на воротах любил наш университетский «ментор», к сожалению, безвременно почивший…
А еще мы часами лежали на солнце, читали, изучали украинский язык, рисовали (я ходил на этюды). Спускались к лиману, соревнуясь в ловкости с козами, пасшимися на головокружительных прибрежных склонах, купались в соленой воде, запросто удерживавшей любое человеческое тело, ловили какую-то слишком медлительную рыбешку, так называемых «бычков». С ними довольно легко можно было справиться одними руками, оглушив предварительно ударом чуть ли не голого не кулака. Оставалось только их подбирать.
Нелишне будет заметить, что я всегда почему-то старался заглянуть в ту часть заповедной Ольвии, где, предположительно, размещался в древности «карасевский» античный театр. Нередко направлялся туда в сопровождении юркого Брута, которого чаще всего тянуло на берег лимана: там вечерами, в синих прозрачных сумерках, при таинственном блеске воды, вспыхивали костры, слышались туристские песни. Бруту там можно было надеяться на весьма приличное угощение.
Когда же мы, наконец, укладывались в свои напольные жесткие «постели», по установившемуся ритуалу от каждого из нас требовалось «травить» анекдоты, и число их, услышанных тогда, не знало предела. Но даже в этом рассказывании, в полнейшей темноте, абсолютное большинство из нас не могло избавиться от страхов, внедренных, пожалуй, где-то на генетическом уровне. Когда я, помнится, рассказал анекдот о Владимире Ильиче Ленине, о том, как деревенский мужик, посетив его мавзолей на Красной площади, обругал вождя матом, сам того не заметив, – вместо здорового смеха ответом мне стало гробовое молчание.
Моими слушателями были люди сплошь городские, из привилегированных прослоек, которые все еще помнили наказания недавних лет. Это – во-первых. Во-вторых, среди нас могли быть (и были) сыновья гебистов. Кто мог знать, не «постучат» ли они куда следует, не известят ли своих папаш… Из простонародья, не привыкшего опасаться своих даже временных сотоварищей, был один я, вроде непуганой белой вороны, к тому же явный экстраверт…
Перед выходными днями, вечером, что говорить, в нашей просторной комнате, озаряемой огарком квелой свечи, появлялось… вино, причем в довольно большом количестве, чуть ли не ведрами. Мы пили его напрямую из этой ведерной емкости, зачерпывая кружками. Это был довольно легкий напиток, только что выдавленный из сочного винограда. Он ничуть не пьянил молодые крепкие головы, и его без опаски употребляли даже наши девушки-практикантки.
Но подобное, повторяю, случалось только в предвыходные дни.
Особенно же действовали на нас лунные ночи.
Разумеется, украинской ночи никто из питерских жителей дотоле не видел и даже представить себе не мог в дождливом северном городе, да и в ином каком-нибудь месте. Даже после гоголевского ее описания. «Знаете ли вы украинскую ночь?» – любил повторять университетский наш предводитель Никита Шебалин, сын замечательного композитора. И сам себе отвечал: «О, вы не знаете украинской ночи! Вглядитесь в нее…». На лице у Никиты, соединявшем в себе какую-то галльскую (французскую) элегантность и своеобразие отечественной дальневосточной породы в такие моменты возникал умело наигранный пафос…
Под влиянием этих ночей, не иначе, условно названный мной Александр, мой однокурсник, совершил настоящий подвиг, вплавь преодолев шестикилометровую полосу лимана. Чтó конкретно подвигло его на это – трудно сказать. Возможно, даже внимание наших девушек, одна из которых (придадим ей здесь имя Любы) впоследствии стала его женой. Быть может, уже тогда он раздумывал о своем будущем, отдыхая в пути и глядя в бездонное синее небо, в котором уже начинали вспыхивать первые звезды, которое было перечеркнуто крыльями редких птиц, если верить словам великого Николая Васильевича. Впрочем, выпади Гоголю лично обозревать объединенное Днепровско-Бугское водное изобилие – он бы придумал еще не такую метафору…
Студента, названного нами Александром и явившегося на незнакомый ему и всем нам противоположный берег, встретили там настоящие сумерки. Куда ему было направлять свои голые ноги? Где искать для ночлега место? О возвращении назад, как предполагалось, наверное, им перед этим поступком, не могло быть и речи. Во всем теле он чувствовал неимоверную усталость. С другой стороны – он был в одних плавках. Быть может, ощущал себя даже слегка Одиссеем в стране феаков…
Что же, он двинулся в направлении манящего огонька, горевшего не то в здании сельского клуба, не то в кулуарах местного сельсовета. Как бы там ни было, все советские граждане к тому времени хорошо еще помнили сталинскую шпиономанию, лишь слегка ослабевшую при задиристом Никите Хрущеве. Простодушные местные селяне, мало что знавшие о затруднениях Одиссея перед глазами молоденькой Навсикаи, решили, что видят перед собою раскаявшегося диверсанта, только что выбравшегося из зловредной американской подлодки, бесшумно подкравшейся к их спасительным берегам. Зря, подумалось им, Никита Сергеевич ликвидировал пограничные дозоры…
Незнакомца, вне всякого сомнения – человека русского, к тому же в очках (возможно, для маскировки?), изъясняющегося без малейшего иностранного акцента, они всю ночь продержали под не замеченным им прицелом. Разумеется, предоставили ему возможность хорошенечко выспаться, внешне даже поверили в «сочиненную» им легенду о принадлежности к клану питерских археологов. А тем временем, наверное, известили район и соответствующие надзорные органы…
Слава Богу, все обошлось благополучно. Названный Александром студент возвращен был к полудню нового дня. Его привезли на лодке, зато уж точно удостоверились, что все им рассказанное – чистейшая правда. Он действительно принадлежит к археологической экспедиции, так что… Чего не бывает в жизни?
При встрече с Карасевым, сильно встревоженным стариком, наш друг опустился на колени и принялся посыпать себе голову пеплом, прихваченным из туристского кострища. Это было для него единственным оправданием своей едва ль не мальчишеской выходки, скорее – ultimum argumentum regum[5]. Страшно даже представить меру всех неприятностей для Карасева и Леви в случае неблагоприятного исхода этой маленькой одиссеи…
Мы же в тот вечер как-то не сразу хватились отсутствия нашего товарища. Да и не беспокоились особо, даже когда хватились. Ну не явился парень ко сну – так задержался в сельской библиотеке. Бывает с ним. Или засиделся на берегу лимана, сейчас придет. Увлекся гостями… Заслушался какого-нибудь «балакучего» местного старикашки… Обычно мы все не придерживались нашего домика, коль рядом такое доступное водное приволье, на берегах которого, в густых синих сумерках, пылают костры, раздаются песни, звенят гитарные струны, слышатся призывные голоса девчат… А тут еще эти лунные ночи! Господи! «Видно, хоч голки збирай», – задушевно пела парутинская молодежь. Как усидеть…
И все же мы ощутили какую-то тайную тревогу. Пожалуй, знать кое-что о случившемся мог лишь Никита Шебалин. Однако он не подавал вида, загадочно отводил глаза…
Движимый этой тревогой, зачем-то я выбрался из нашего домика и сразу же ощутил на себе воздействие украинской ночи. Ежедневно, сотни раз озираемые мною деревья предстали вдруг погруженными в загустевший голубоватый сумрак. Наш дом оказался под сияющей серебряной крышей. Труба на ней засверкала волшебными камнями, готовыми вот-вот подняться и растаять в прозрачном бездонном небе, «с середины которого смотрит месяц»…
Побуждаемый непонятным чувством, выбрался я за пределы условного дворового пространства, однако не направился вниз, налево, по сбегавшей к лиману зигзагообразной тропинке. Пошел зачем-то по направлению к раскопкам, сопровождаемый неизвестно откуда явившимся взъерошенным Брутом. Пес бежал впереди меня, как бы зовя за собой.
Вот и гробница, на которой торчит сейчас совершенно праздный флагшток, лишенный обычного ярко-красного полотнища. Вот потянулась вымощенная камнями брусчатка главной городской улицы давно исчезнувшего города, ведущей к агоре (рыночной площади), к так называемому теменосу (место стоявших тогда святилищ). Вот и квадраты наших зияющих под луною раскопов… Но какие они… Господи! Их не узнать под этим чарующим лунным светом…
Уж и не припомнить сейчас, как и когда оказался я в том самом месте, куда, ради ознакомления с заповедником, увлекал нас всех Карасев. Да, это было место предполагаемого им античного театра.
Но как оно теперь выглядело!
Затененная часть пространства почудилась до отказа заполненной человеческими существами. В любое мгновение они готовы были взорваться рукоплесканиями, криками «браво!», не знаю, чем еще. Тогда как эпицентр всего этого, предполагаемая Карасевым «орхестра», сцена, была залита ослепительным лунным сиянием, готовая незамедлительно принять актеров, хористов. Все это, весь представший огромный амфитеатр, казался наполненным синеватыми тенями. Все утопало в непрерывном перемещении, кипело неудержимой энергией. Набежавший откуда-то ветерок лишь усилил иллюзию.
Заслышав шум перемещаемого воздуха, завидев результаты его незримой работы, Брут мигом прижал к голове свои острые уши. Зарычал, вздыбил на загривке шерсть. Но, присев на передние лапы, тут же сообразил, что обмишурился, и разом обмяк всем телом…
В Питер мы возвратились после месячного ольвийского пребывания.
Уезжали рейсовым катером, ночью, так что мне опять не пришлось любоваться парутинской панорамой во всем ее великолепии и объеме. Однако все это ничего уже почти не значило: с ольвийскими берегами я ознакомился во всей их красе. Увозил даже несколько сделанных красочных этюдов, с красными берегами над синей прозрачной водою, с затерявшимися в дали голубыми просторами, с гробницей на самом высоком месте при ярко-красном флаге. Даже с нашим неказистым домиком под вековыми деревьями…
На прощание, перед тем, как выпить последнюю чашу парутинского вина и съесть последнюю гроздь винограда, успел еще раз сходить на то место, где когда-то размещался античный театр. Солнце как раз клонилось к закату. Длинные тени бороздили крутые склоны, отчего все там выглядело необыкновенно новым, совершенно незнакомым. И снова мне показалось, что амфитеатр весь наполнен живыми существами…
В Питере я властно почувствовал, что интерес к античному театру невольно захватил меня. Я даже стал сожалеть, что в недостаточной степени обращал внимание на лекции профессора Дмитрия Павловича Каллистова, который читал нам историю Древней Греции. Биография Каллистова в значительной степени оказалась схожей с биографией Аристида Ивановича: он также был узником Гулага и также стал одним из действующих лиц эпопеи Александра Солженицына. А чем заинтересовал меня Каллистов, так это тем, что им была написана книга об античном театре.
Все, что касалось древнегреческих представлений, – попадало теперь в поле моего пристального внимания. Многому в этом плане обязан я Наталье Александровне Чистяковой, излагавшей нам историю древнегреческой литературы, в том числе – и античной драматургии. Немудрено, что классическая древнегреческая драма стала темой моей курсовой работы, выполненной на материале «Медеи» Еврипида. Наталья Александровна сочла курсовую чуть ли не образцовой. Правда, в последний миг поняла, что в ней ощущается сильное влияние Иннокентия Федоровича Анненского, переведшего на русский язык все трагедии Еврипида. Восторженный пыл наставницы после этого несколько привял…
Впрочем, что говорить. После поездки в Ольвию я получил богатейший материал для длительных размышлений. Мне очень хотелось каким-то образом пособить Карасеву в разгадке тайны ольвийского театра. Однако… Впоследствии оказалось, что месторасположение античного театра в Ольвии было изуродовано, почти уничтожено оползнями, случившимися еще чуть ли не до нашей эры…
Зато теперь точно могу сказать, чтó конкретно дало мне толчок к написанию предлагаемой читателю книги…
Театр одного актера
Весел бог черноволосый,
Ждет вечерней темноты.
Кое-как льняные косы
У подруги завиты.
Скрыто небо черной тучей,
Мгла нисходит на поля…
После чаши – ласки жгучи
И желанный одр – земля.
Валерий Брюсов
Аттика
После того, как в Афинах воцарился Кекроп и эта область, дотоле называвшаяся по имени местного жителя Актия Актикой, стала называться Кекропией, прошло 1318 лет.
Паросский мрамор[6]
Всем событиям, о которых ведется речь в этой книге, так или иначе предстоит замыкаться на древней аттической земле. В силу чего, полагаю, читателю книги не лишним будет ознакомиться с Аттикой хотя бы в общих чертах.
Ни для кого не является секретом, что любое животное существо гораздо комфортней и безопасней ощущает себя в каком-нибудь закутке, ограниченном надежными стенками, расходящимися или сходящимися под углом у него за спиною. Так, например, ведет себя крохотный котенок. Так поступает дерзкий щенок. Не слишком отличаются от малышей и взрослые особи. Обезопасив тылы, животные спокойней следят за всем, что происходит перед их глазами.
Нечто подобное испытывали древние эллины, оказавшись на каком-нибудь полуострове, речном или морском мысе, где слева и справа от них расстилается водная гладь.
Именно такими природными свойствами отличалась аттическая земля, расположенная в центре эллинского мира, но вместе с тем – чуть-чуть в стороне от давно установленных больших сухопутных дор ог.
С востока аттические берега омывались узкой водной полоской, неглубоким проливом, отделявшим их от обширного островного массива. Массив назывался Эвбеей.
С юга набегали на Аттику волны обычно спокойного Саронического залива, на гладкой поверхности которого, при тихой погоде, различались контуры острова Эгина. Пешему путнику удавалось пересечь Эгину с севера на юг за каких-нибудь два часа.
За этим островом возвышалась уже территория Пелопоннеса, точнее – гористая Арголида со своими древнейшими городами – Микенами, Аргосом и Тиринфом.
Совсем рядом с Аттикой, у полуденных ее берегов, но ближе к западной их окраине, вытыкался из моря другой крупный остров – Саламин. Его окружали удобные бухты с заливами, песчаными мелями и гостеприимными берегами – мечтою потомственных мореходов. Для жителей Аттики Саламин стал предметом продолжительных споров с Мегарами. За мегарцами жителям Аттики приходилось следить постоянно.
Мегарская земля, соседствующая с Аттикой, отличалась сплошным гористым ландшафтом. Ее протыкали дороги, бегущие с севера на юг Балканского полуострова. В западной части Мегар возносился к небу каменный кряж Гераннион. В нем зиял узкий проход над обрывистым берегом моря, напоминавший собой пресловутые Фермопильские ворота, расположенные на севере Греции и представлявшие первую преграду для врагов, вторгавшихся со стороны Европы.
На северо-западе граничила с Аттикой богатая во всех отношениях Беотия, знаменитая многовековой историей, а также своей древнейшей столицей – семивратными Фивами, крепостью Кадмеей.
Мысли о тесном мегарском проходе, быть может, прежде всего овладевали сознанием хищных завоевателей, продвигавшихся с севера на юг. Миновав Беотию, наверное, забывали они об Аттике, считая ее совершенно непривлекательной. Невидимая глазу земля оставалась по левую руку. Завоеватели устремлялись к узкому горному проходу, небезосновательно полагая, что встретят там слишком опытных воинов, знающих каждую тропинку и каждый каменный выступ в неприступно-высокой скале. Быть может, в пылу захватнических порывов, вторгшиеся даже не подозревали, что за горными массивами скрывается наиболее привлекательная часть страны.
Преградой, прикрывавшей Аттику со стороны Беотии и Мегар, был разветвленный горный массив Киферон (1409 метров) и его продолжение – Пáрнес (1413 метров).
Пришлые люди, будь они даже завоевателями или купцами, странниками или просто мирными путешественниками, которым удавалось преодолеть указанные горы, – попадали в Аттику и тут же останавливались, сильно озадаченные. Перед ними было вытянутое с юга на север значительное пространство. От южной оконечности до северных границ его насчитывалась добрая сотня нынешних километров, тогда как вся совокупная ширина Аттики была раза в два меньше. Она казалась, да и в самом деле была довольно скудна водою и тоже достаточно гористой.
В северо-восточной части Аттики возносились горы Пентеликона (1109 метров), недра которых распирали залежи добротного природного мрамора. На юго-востоке – тянулись горы Гиметт (высшая точка более 1000 метров), известные своим удивительным медом, а также белым мрамором с чуть заметным голубоватым отливом.
Еще на юго-востоке Аттики стояли невысокие горы Лаврион, таившие в себе залежи ценного в древности серебра.
Со всех указанных гор стекали редкие в Аттике реки, именно – с Пентеликона Кефис, с Гиметта – Илис, в свою очередь впадающий в Кефис. Летом все эти реки мелели, пересыхали, пропадали вовсе.
Значительную часть аттической территории составляли зеленые равнины: Афинская, Элевсинская, Марафонская и так называемая Мезогайя – серединная земля, упиравшаяся краями в горы Гиметта и Пентеликона. На всех упомянутых мною просторах можно было с успехом выращивать сельскохозяйственные растения, заниматься прибыльным скотоводством.
Нет ничего удивительного, что перечисленные равнины стали весьма притягательными для людей. Именно на них появились древнейшие поселения, а сами наименования их превратились впоследствии в названия городов – Афины, Элевсин, Марафон.
Вблизи Саронического залива, в пяти-шести километрах от берега моря, внимание человека привлекало заметное издали возвышение из залежей бурого известняка. Оно было вытянуто с запада на восток. Самая высокая точка его достигала 146 метров над уровнем моря.
Первое, что поражало местных жителей при взгляде на этот уникальнейший холм, – обилие всевозможных змей. В древности они считались обладателями тайной и мудрой силы. Эта сила угадывалась во взгляде застывших красноватых глаз на точеной змеиной головке, в движениях чуткого тела. Змеи считались олицетворением мудрости, благодаря их природной близости к матери земле. Они слыли прямым ее порождением.
Конечно, похожим образом относились к змеям и обитатели Аттики. Но то, что им удавалось наблюдать на склонах данного холма, – превосходило все человеческие представления. На холме бурлило настоящее змеиное царство. На раскаленных солнцем каменных склонах согревалась живая шевелящаяся масса. Гибкие тела, словно стебли ползучих растений, обвивали стволы деревьев, чудом проросших среди сплошного царства камней. Поспешно и весело шлепались змеи брюхом на камни и, с леденящим душу шуршанием, втискивались в еле заметные норки и в узкие щели.
Пастухи, у которых время от времени отбивались от стада и пропадали помеченные ими козы, вынужденно заглядывали в пещеры на склонах загадочного холма. После этого клялись всеми существовавшими олимпийскими богами, что творимое в полумраке пещер стократно превосходит все видимое на раскаленных лучами склонах. Пастухи уверяли, будто в пещерах обитают змеи невиданных прежде размеров. Будто у них завелись свои государи! Дескать, им, пастухам, неоднократно приходилось видеть змею в золотой короне и даже в роскошных царских одеждах.
Змеиные правители, в представлении местных жителей, естественно, не могли не быть связанными с небесными силами, с могущественной богиней Геей. Первым аттическим царем, понятно, стало также загадочное существо, рожденное этой богиней. То был вроде бы даже почти человек, отличавшийся лишь громадною головою и пронзительным взглядом мудрых, все понимающих глаз. А еще – пышной гривой жестких волос, ниспадающих на довольно узкие плечи, да длинным змеиным хвостом, извивающимся в крупных кольцах.
Взобравшись на высокие камни, каким-то скрипучим голосом, существо неожиданно заявило:
«Лю-ю-ди! Меня зовут Ке-кро-пом… Я буду всеми вами пра-а-вить! М-да!»
Жители аттической земли не без удовольствия подчинились этому странному повелению. Кекроп довольно быстро возвел укрепление на известняковом холме, ставшем центром всего государства. Устроенную крепость назвал по-своему, точнее – в честь своего необычного имени – Кекропия. Слово вскоре перешло в название всего государства.
При Кекропе же, по преданию, случилось весьма памятное состязание Афины с родным ее дядей, морским божеством Посейдоном. В результате победы богини первый аттический город обрел ее звонкое имя, а высокий холм в центре города стали называть Акрополем.
На Акрополе вырос и храм Афины. В нем поселилась гигантская змея, знаменовавшая собою присутствие высшей покровительницы всего афинского племени.
Афина научила эллинов разведению оливы. Это стало для них источником очень больших богатств.
Свое новое название – Аттика – говорили в народе, страна получила по имени царевны Аттиды, дочери следующего афинского царя Краная, сменившего загадочного Кекропа[7].
Кранай был уже вполне человеком. Аттида, правда, умерла в девичестве, а вскоре после этого Зевс наслал на людей потоп, который продлился девять непроглядных дней.
По всей вероятности, потоп не коснулся семейства аттического царя. Известно, что вторая дочь его вышла замуж за отпрыска уцелевшего от страшного бедствия благочестивого праведника – Девкалиона. Девкалионова сына звали Амфиктионом. Ему очень понравилась аттическая земля. Вскорости, свергнув тестя, зять самолично уселся на еще не остывшем его престоле.
Одним из неожиданных результатов этого государственного переворота стала дружба нового царя с богом виноделия Диóнисом. Разведение винограда сделалось дополнительным источником богатств аттической земли.
Так начиналась история этого края.







