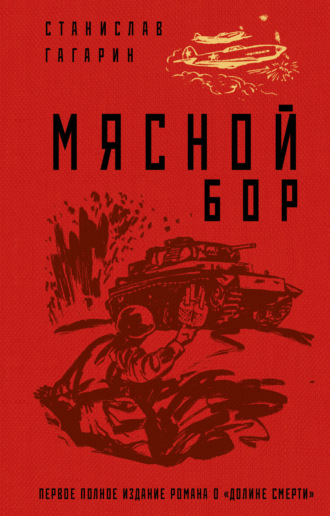
Станислав Гагарин
Мясной Бор
Генерал Гальдер тоскливо подумал о том, что ему следовало предупредить фельдмаршала. Хотя кто бы мог предвидеть, что фон Лееб сошлется на проклятую русскую зиму, да еще прямо так и произнесет, не маскируясь обтекаемыми формулировками, ненавистные фюреру слова?
«Да, – подумал Гальдер, – это, пожалуй, последний визит фельдмаршала в Ставку…»
– Что? – закричал Гитлер. – Что вы сказали, фон Лееб? От вас, именно от вас, офицера старой германской школы, я слышу эти слова… Мне больно и горько! Вы…
Голос у Гитлера сорвался, он заложил руки за спину и, наклонив голову вперед, стал расхаживать по кабинету. Поворачиваясь к фон Леебу, он поднимал голову и исподлобья глядел на фельдмаршала. Прядь волос падала на глаза, и фюрер резко откидывал голову, отворачивался от неестественно прямо застывшего командующего группой армий «Север».
Когда 19 декабря фюрер объявил, что берет на себя командование сухопутными войсками вместо фон Браухича, который официально уходил в отставку по болезни, первым его действием было категорическое требование изъять выражение «русская зима» из лексикона военных, поскольку фюрер считал его психологически опасным. И Гальдеру пришлось заняться несвойственной начальнику Генштаба функцией – вылавливать из донесений с Восточного фронта сакраментальное выражение, попавшее в опалу. А теперь о приказе фюрера знали, пожалуй, все, вплоть до последнего солдата. И потянуло же за язык этого фон Лееба… Нашел на что сослаться. Гальдер попытался встретиться взглядом с фельдмаршалом, но тот напряженно следил за разъяренно шагавшим в молчании Гитлером.
– Не думайте, фельдмаршал, что вам тяжелее, чем другим, – проговорил вдруг фюрер. – Трудно всем… Не мне объяснять вам, старому солдату, что такое война. Да, нашим доблестным армиям приходится нелегко! Но кто ждал там, в бескрайней России, легкой победы? Теперь осталось недолго… Последнее усилие – и враг будет повержен! Вы уже настаивали на немедленном отходе. Я ответил вам, что не могу с этим согласиться. Необходимо удерживать фронт на Валдайской возвышенности и на Волховском рубеже, необходимо!
– Но, мой фюрер, русские готовятся перейти в наступление от Ладоги до нашего стыка с группой армий «Центр», – сказал фон Лееб. – Я приложу все усилия, но боюсь, что успеха не будет. Части группы армий измотаны в предшествующих боях, перебросить в срочном порядке подкрепления невозможно.
– Почему? – быстро спросил Гитлер и вопросительно глянул на принявшего невозмутимый и вместе с тем снисходительно-заинтересованный вид Гальдера.
– Слишком медленный темп движения, – ответил Гальдер. – Мы перебрасываем туда Двести восемнадцатую пехотную дивизию. Но прибудет на Волховский фронт она к концу января.
– Наведите порядок на железных дорогах! Вагнера и Бенца наделить диктаторскими полномочиями! – приказал Гитлер. – В нашем положении дороги – это все. Это залог успеха! А вы…
«Бог мой! – мысленно воскликнул Гитлер. – Как я одинок! Нет около меня человека, на которого мог бы положиться. Напыщенные снобы! Лучшие военные умы нации. В них нет ничего, кроме комплекса условностей и обветшалых традиций. И этот Гальдер… Пыжится, будто павлин на птичьем дворе. Эдакий рыцарь без страха и упрека… Будто я не знаю, господин генерал-полковник, как вы еще в тридцать девятом году договорились уйти с Браухичем вместе, если я вышвырну одного из вас вон. И мне известно, что вас упросил остаться бывший Главком. Он надеется, будто сумеете влиять на меня. Попробуйте, Гальдер. Влияйте…»
Мысль о том, что кто-нибудь попытается влиять на него, хотя фюреру уже представили запись доверительного разговора между генерал-фельдмаршалом фон Браухичем и Францем Гальдером, эта мысль привела Гитлера в хорошее расположение духа.
– Вы, фельдмаршал, устали больше других, – сказал фюрер с улыбкой, обращаясь к фон Леебу, – теперь и я вижу это. И просите освободить вас от должности, не так ли?
Фон Лееб вздрогнул. Фюрер смотрел ему прямо в глаза.
– Ах да, вы еще не успели мне сообщить об этом… Только я уже догадался о вашем желании. Странно… Всю зиму я сам снимал генералов с их постов. За трусость и безволие! Я снял с должностей около двухсот генералов, а командира Сорок второго корпуса Шпонека приговорил к смерти и только потом заменил ее заключением в крепость. Теперь мои полководцы дружно принялись болеть. Их разбивает паралич, как Рейхенау. А иные попросту подают в отставку. Какая у вас болезнь, фельдмаршал?
Фон Лееб открыл было рот, но Гитлер махнул рукой:
– Можете не отвечать. Я приму вашу отставку.
Он подошел к столу, устало опустился на стул, положил локти и подпер руками голову. В кабинет неслышно проскользнул штабной офицер. Он приблизился к генералу Гальдеру и зашептал на ухо. Гальдер выслушал и кивнул. Офицер вышел. Начальник Генштаба негромко кашлянул. Гитлер продолжал сжимать голову руками. Он смотрел на большую карту Восточного фронта остекленевшими глазами.
– Мой фюрер, – решился наконец генерал-полковник, – сейчас звонил командующий группой армий «Центр». Противник подтянул в район Медыни свежие силы. Бои исключительно обострились…
Гитлер молчал. Он продолжал пристально смотреть на карту. Потом, не поворачиваясь, устало произнес:
– Передайте фон Клюге: я разрешаю сдать Медынь.
4
Во сне ей было стыдно.
За месяцы, проведенные на фронте, старшина медицинской службы Марьяна Караваева даже на мгновение не допускала мысли о близости с мужчинами. Хотя мужиков было хоть пруд пруди и на нее, красивую молодую женщину, заглядывались многие. Ее чрезмерная, даже в мыслях, сдержанность не была связана с необходимостью хранить верность мужу. Он погиб еще 22 июня, защищая пограничную заставу на Буге. Да и ей, Марьяне, не жить бы, не увези она на лето к матери двух маленьких сыновей.
Скорее тут было другое: Марьяна всерьез относилась к войне, к поведению людей на фронте. Считала: раз войну называют «священной», значит, и люди на ней должны быть святыми. Вот взять хотя бы ее. Мать двоих детей, а пошла воевать, оставила несмышленышей в Малой Вишере – и ушла. Не брали – добилась через райком ВКП(б). И после такой жертвы она будет этим на фронте заниматься… Нет, даже думать о таком кощунственно!
Подобная позиция женщины чутко ощущается мужчинами, и в основном Марьяну оставляли в покое. Бывало, кто из раненых по неосведомленности и пытался ухаживать за красивой сестричкой, но, получив отпор, тут же отставал.
Блюла себя Марьяна с достоинством, и тут на тебе… В холодную январскую ночь, незадолго до наступления, которое готовился начать Волховский фронт, приснилось ей такое, что у нее во сне уши пылали от стыда. Пылать-то пылали, а самой нравилось привидевшееся. И любила она пылко и беззаветно, и будто до конца растворялась в совершенно незнакомом ей мужчине. Добро бы с мужем… Нет, с тем у нее так не бывало…
В последние дни суматохи было вдоволь – медсанбат тоже готовился к наступлению. Они выдвинулись со станции Парахнино вместе с дивизией, которая еще в декабре вошла в состав Второй Ударной армии, переименованной так из Двадцать шестой армии, находившейся до того в резерве Ставки Верховного главнокомандования. Медсанбат развернулся поближе к переднему краю, чтобы вслед за атакующими цепями двинуться вперед и начать принимать раненых. А в том, что их будет много, никто не сомневался.
…Марьяна проснулась с чувством особой бодрости, которое приносит глубокий сон, если им заканчивают длительную и хлопотливую, требующую сильного напряжения духовных и физических сил работу.
«Выспалась на славу», – подумала молодая женщина. Вспомнив подробности сна, Марьяна густо покраснела и поспешно отвернулась, чтоб не выдать смятения разбитной подруге, хирургической сестре Тамаре, которая испытующе посмотрела на нее.
– Что снилось, Марьяночка? – нараспев проговорила Тамара, и Марьяна с трудом отогнала мысль, будто та все знает. Слава богу, в чужие сны никто еще проникать не умеет.
– Так, – стараясь говорить равнодушным тоном, ответила Марьяна, – ерунда всякая. Давно не спишь?
– В одно время с тобой проснулась, подружка. А мне вареники привиделись. С вишнями и сметаной. Мама мне их все сыплет да сыплет в миску, а я наворачиваю. Прелесть! Вот бы сейчас их соорудить… А, Марьяна?
– Глупая, – снисходительно проговорила Марьяна. – Ведь на дворе январь!
– И то, – согласилась девушка, – зима стоит. А на танцы сегодня пойдем?
– Какие еще танцы?
– А у артиллеристов. Ребята приглашали.
– Нашли время. Завтра люди в наступление пойдут, тысячи полягут, а вы… танцы. Прямо святотатство какое-то!
– Одно другому не мешает, – не согласилась Тамара, но, увидев, что подруга сердится, быстро проговорила: – Ну хорошо, ну ладно. Никуда не пойдем. Только ты мне тогда про первого маршала расскажи, как ты его видела. Расскажешь?
– Так я тебе уже дважды про то говорила!
– Марьяна, и в третий раз послушать такое приятно. Это ж надо, какая ты счастливая! Самого Ворошилова видела. Мне б такое – умерла б от счастья!
…В Чудове это случилось осенью прошлого года. А до того была Малая Вишера, где оставила она, Марьяна Караваева, сыновей-мальчишек: Филиппа, которому не исполнилось еще и трех лет, и полуторагодовалого Сашку. Оставила на попечение своей приемной матери, Станиславы Адамовны, старой большевички. Уже в четыре часа дня 22 июня эта необычная женщина, испытавшая подполье и каторгу, написала военкому Малой Вишеры: «Родина в опасности! И потому благословляю дочь на ее защиту. А на двоих внуков сил у меня еще хватит. Верю – Родина нас не оставит без помощи…»
Военный комиссар наотрез отказался призвать в армию военнообязанную, обремененную двумя малыми детьми. Неделю обивала Марьяна пороги райкома, где принимали ее в партию нынешней весной. Наконец, партийная тройка приняла решение направить ее с отрядом рабочей гвардии в штаб партизанского движения Ленинграда. Их было двести человек, в отряде имени Коминтерна. Маловишерские рабочие всех возрастов, освобожденные от призыва в Красную Армию по разным недугам. Сегодня о недугах забыли… Пусть им нельзя служить в регулярных частях! Они станут драться с партизанами вместе. Двести рабочих. И среди них одна женщина – медсестра Караваева.
Вскоре их отряд прибыл на станцию Чудово. Здесь скопились эшелоны с горючим, снарядами, бомбами. Германские самолеты с крестами на крыльях уже зажгли станционный поселок. Стоял нескончаемый грохот. Люди, признаться, растерялись, но все держались вместе.
– Вспоминать страшно, – сказала Марьяна, – а тогда… Впереди уже гремели сильные взрывы, полыхал огонь. Видно, начали рваться цистерны. Вдруг откуда ни возьмись выскочил военный и нашему командиру пистолет под нос. «Расстреляю, – кричит, – сукина сына! Бери свою команду, расцепляй вагоны и откатывай. А то сейчас все взлетит к чертовой матери!»
– Ух ты! – восхищенно проговорила Тамара.
– Подожди, – отмахнулась та и продолжала рассказывать, уже сама увлекаясь, заново переживая прошлое: – Приказ ясен. Бросились к вагонам, по два-три человека на каждый. Одни расцепляют, другие откатывают подальше от взрывов. Смотрим: на дрезине кто-то подъехал, начальник какой-то, и к нам идет не спеша с адъютантом. Наш временный командир стоит к нему спиной, не видит его, значит, а нас всех для бодрости духа поливает по матушке, чтоб побыстрее шевелились. Климент Ефремович, а это был он, Ворошилов, подошел, послушал, головой качнул и говорит: «Как нехорошо!» Тот повернулся и хотел соответственно послать, да тут и застыл, рот разинув, узнал… В это время и ахнула рядом бомба. Нас и сыпануло, как горох, в канаву.
– И маршала? – недоверчиво спросила Тамара, хотя слушала эту историю в третий раз.
– И его, – ответила Марьяна. – А против взрывной волны что сделаешь? Лучше уж катиться, да подальше…
– А потом что было?
– Поднялись мы, отряхнулись. Климент Ефремович на паровозе уехал. А тут вскоре и налет прекратился. Вагоны мы раскатили, спасли многое. Пошли дальше к Ленинграду. «Все, голубчики, – сказали нам вскоре, – дальше дороги нету…» Вернулись те, кто живой остался, в Малую Вишеру. Снова я в военкомат. Там, видно, решили: ведь все равно уже баба воюет. И направили меня в инженерный батальон. С ним я и уходила с боями. А в декабре в батальоне появился представитель, отбиравший добровольцев в новую дивизию. Я изъявила желание сразу же. Отобрали несколько человек, и меня тоже. Отправили нас на станцию Парахнино, к месту формирования 46-й стрелковой дивизии. Там мы с тобой и встретились.
Вошел хирург, военврач 3-го ранга Казиев.
– Чего не спите, девчонки? – спросил он. – Завтра будет не до сна. Добирайте сегодня. А то как бы вам не свалиться. – Он добрыми глазами посмотрел на Марьяну и вышел.
– Хороший мужик, – сказала Тамара. – Слыхала я – большой был доктор у себя на Кавказе. Правда?
– Правда, – согласилась Марьяна.
Она жалостливо подумала: «О нас побеспокоился, а самому каково придется? Вдруг прихватит…» Под величайшим секретом одна из женщин-врачей сообщила Марьяне: тяжелым недугом страдает их хирург. И вдруг безо всякой связи с предыдущей мыслью, себя за это осуждая, со странным, никогда за собой не замечаемым интересом подумала: приснится ли ей когда-нибудь еще сегодняшний сон?
5
«Сегодня начнет Мерецков, – подумал Сталин. – У этого упрямца должно получиться… Резвости б ему добавить. Упустил немцев из Тихвина, не успел зажать их в кольцо».
Он стоял у плотно зашторенного окна кабинета в Кремле, в котором теперь бывал все чаще. Почти всю осень, с небольшим перерывом, и половину зимы Сталин провел в подземелье станции метро «Кировская», где было оборудовано стационарное помещение для Ставки Верховного главнокомандования. Там он работал и спал, туда вызывал командующих фронтами. Сейчас, когда линия фронта отодвинулась от Москвы, решил перейти в кремлевский кабинет. Товарищи, которые отвечали за его безопасность, пытались возражать, напоминая о злополучной бомбе: она угодила в здание Центрального Комитета партии на Старой площади. Но Сталина убедить не удалось, и вождь все чаще бывал у себя в Кремле, в привычной обстановке, которую не любил менять.
Верхний свет в кабинете был погашен. Горела лишь небольшая лампа на приземистом столе, где лежали подробные фронтовые карты с нанесенной на сегодняшний день обстановкой. Сталин внимательно и сосредоточенно рассматривал их, когда оставался в одиночестве.
Сталин продолжал думать о Мерецкове и завтрашнем наступлении, которое начнет Волховский фронт. Ему вдруг вспомнился взволнованный голос Жданова, который по телефону днем докладывал о тяжелейшем положении Ленинграда.
«Потерпите, – сказал Жданову Сталин. – Мы здесь понимаем, как трудно ленинградцам. Но теперь осталось недолго… Вы меня понимаете, товарищ Жданов?» – «Понимаю, товарищ Сталин», – ответил Жданов, и слышно было, как он вздохнул.
Сталин вспомнил об этом и поморщился. Тогда, днем, он отнес эмоциональную несдержанность секретаря ЦК за счет естественного беспокойства о судьбе города. Теперь, когда минуло время, Сталину показалось, что в ждановском вздохе был некий осуждающий оттенок. Дескать, мы-то, конечно, потерпим, а вот как случилось, что вообще докатились до такого положения?..
«Вздыхает, – раздраженно подумал Сталин. – Слишком стали чувствительны все. А на чувствах далеко не уедешь. И тем более не выиграешь войну».
Сталин не захотел даже самому себе признаться в том, что понял, кому адресован упрек в виде вздоха. Разреши он себе понять это – несдобровать тогда Андрею Александровичу. Но Сталин верил в преданность Жданова, насколько он вообще мог кому-либо, включая самого себя, верить. А таких, как Жданов, у Сталина осталось немного. Теперь он берег их скорее инстинктивно, подсознательно, боясь остаться в полном одиночестве…
Обладая рядом сильных качеств, именно сильных, положительными качествами в общечеловеческом смысле Сталин не обладал, он был незаурядным человеком, поставившим перед собой задачу навсегда и бесповоротно освободиться от любых эмоциональных слабостей. При его железной воле, способности заставлять людей безропотно подчиняться, огромной работоспособности, феноменальной памяти и поистине одиссеевой хитроумности жестокую натуру Сталина отличал трагический недостаток: Сталин не умел и зачастую не хотел учиться на собственных ошибках. Разумеется, он был способен любой ценой исправить запутанное положение, умел найти выход из тупиковых ситуаций, которые нередко возникали из-за его же собственных просчетов, но всегда поворачивал дело так, чтобы виноватыми оказывались другие.
Ореол непогрешимости, который окружал личность вождя с начала тридцатых годов, не позволял широким массам советских людей ни на йоту усомниться в том, что во всех перекосах, возникающих в процессе строительства социализма, виноват не Сталин и его окружение, а классовые враги, завербованные буржуазными секретными службами. Ошибочный, как показало грядущее, тезис Сталина о неизбежном обострении классовой борьбы по мере дальнейшего продвижения государства к социализму стал определяющим политическим фактором, списывающим многочисленные нарушения законности и правопорядка в стране. Эти нарушения объективно ослабляли государственную мощь, порождали тенденцию недоверия к людям, а недоверие, когда отсутствие веры необоснованно, вещь опасная.
Воскресный день июня прошлого года Сталин не любил вспоминать. И при всем при том он, до последней минуты не веривший многочисленным сообщениям разведчиков о надвигавшейся войне, не считал себя виновным в происшедшем. «Нужна ли была советскому народу, делу строительства социализма война с Гитлером? – спрашивал он себя. И отвечал: – Нет, не нужна. Все ли сделал я, чтобы предотвратить ее? Разумеется, все. Ну а в том, что мы оказались недостаточно подготовленными к войне и немцы застали нас врасплох, виноваты военные. Некоторые из них, вроде Павлова, растерялись, потеряли управление войсками, допустили панику, пропустили немцев к Москве. Пришлось взять руководство войной в собственные руки. И что же? Остановили мы все-таки немцев. А потом и погнали их обратно… Фактор внезапности. Да, он позволил противнику застать нас врасплох, – усмехнулся Сталин. – Но теперь этот фактор сработал против них».
Вождь был прав. Для германской армии контрнаступление Красной Армии под Москвой было неожиданным. И это, безусловно, помогло нашим войскам одержать значительную и материальную, и психологическую победу.
А тогда, в сорок первом году? Что это было? Преступная близорукость на государственном уровне? Неоправданная самонадеянность? Стремление выдать желаемое за действительное? Странная страусовая политика!
Предвоенные недели полны парадоксальных фактов. Пятого мая 1941 года Сталин выступает перед выпускниками военных академий и произносит трезвые и, самое главное, своевременные слова о том, что не может сказать, грянет война завтра или послезавтра, но что столкновение с Германией неизбежно – это точно. Сталин призывает командиров быстрее вернуться в части и готовиться к войне. А четырнадцатого июня появляется известное сообщение ТАСС, которое дезориентировало военачальников и притупило бдительность войск.
…Сталин протянул руку и медленно отвел в сторону край тяжелой портьеры. За окном была глубокая ночь. Да и ему пора уже спать. Но сон не приходил – сегодня вождя, несмотря на тревожный звонок Жданова из Ленинграда, не оставляло приподнятое настроение.
Сталин смотрел в ночь.
«Теперь я воюю сам, – подумал он. – Мирный человек, никогда не стремившийся к военной карьере, вынужден взять в руки меч…»
Пожалуй, сейчас Сталин был искренен с самим собой. Да, он не был военным человеком. Во времена Гражданской войны часто выезжал на фронт по заданию Центрального Комитета партии большевиков, но его роль при этом была скорее политической. Правда, надо отдать ему должное, Сталин, став генеральным секретарем, лично вникал в вопросы создания новых видов оружия, порой снисходя до мелочной опеки.
«Москва в безопасности, – думал он, – и это для нас главное. Двадцатая армия генерала Власова перешла в наступление в районе Волоколамска и прорвала немецкую оборону на реке Лама. Наш прорыв у Ржева неуклонно расширяется… Противник в «мешке» у Сухиничей! Еще немного – и группа армий «Центр» перестанет существовать. На юге в целях освобождения Харькова, Полтавы и Днепропетровска маршал Тимошенко готовит ряд охватывающих ударов с юго-востока против Семнадцатой армии, в районе Изюма, а со стороны Белгорода он ударит по Шестой армии…»
Сталин не догадывался, а если б ему и сообщили, то не поверил бы, что немцы уже оправились от той растерянности, в которую их повергло наступление русских в начале декабря сорок первого года. Да, сила удара и размах зимнего контрнаступления Красной Армии были таковы, что центральная часть германского фронта была поставлена на грань катастрофы. Выдохшиеся на подступах к Москве, измотанные усиливающимся сопротивлением советских солдат, армии группы «Центр» оказались не подготовленными к неожиданному повороту военных событий.
Перед солдатами фельдмаршала фон Бока, а затем фон Клюге, который сменил заболевшего командующего, зловеще замаячила судьба великой армии Наполеона. Высшее командование вермахта высказывалось за немедленный отвод войск и сокращение линии фронта.
В отчаянном положении Гитлер предпринял решительные меры. Он отверг любые помыслы об отступлении, выдвинул два категорических требования: «Ни шагу назад!» и «Удерживать фронт любой ценой!». Для подавления паники, ликвидации пораженческих настроений в войсках по его приказу было сформировано более ста штрафных рот из провинившихся солдат. Из офицеров, поддавшихся панике и отступавших под натиском Красной Армии, немцы создали десять штрафных батальонов. Все штрафники были отправлены на опасные участки фронта, чтобы кровью искупить вину перед рейхом. Позади неустойчивых подразделений были поставлены заградительные отряды. Они получили суровый приказ: беспощадно расстреливать тех, кто попытается самовольно оставить позиции или захочет сдаться в плен русским.
Спустя несколько месяцев, в трудное лето сорок второго года, Сталин творчески использует опыт врага, о чем недвусмысленно заявит в знаменитом приказе № 227 от 28 июля.
Но главный просчет Сталина заключался в том, что вождь недооценил силу сопротивления войск противника и переоценил собственные возможности. Его план уничтожения всех трех армейских группировок врага единым и общим ударом был смел и решителен, если бы опирался на реальные возможности, которыми располагало в начале сорок второго года Советское государство. Однако последнего-то как раз и недоставало. Эвакуированные на восток заводы только развертывали производство. Значительные нехватки ощущались по всем видам вооружения, в то время как резервы Третьего рейха далеко не истощились. Гитлер, организовав стойкое сопротивление собственных войск, одновременно готовился к летнему наступлению, выдвигал на Восточный фронт новые силы. О них разобьются и попытки Жукова прорваться к Смоленску, и намерение Тимошенко освободить Харьков. Окажется неудачной и Крымская операция. Севастополь придется сдать.
Все это произойдет позднее. А тогда, в начале 1942 года, Верховного главнокомандующего, находившегося под сильным эмоциональным влиянием от разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, не покидала надежда на успешное наступление на всех направлениях. Отвергнув план стратегической обороны, предложенный начальником Генерального штаба Красной Армии Шапошниковым, Сталин выдвинул идею общего наступления всеми фронтами, от Ладоги до Черного моря.
«Завтра начнет Мерецков», – снова подумал Сталин, вглядываясь в ночь, будто пытаясь пронизать взглядом пространство и увидеть скованный льдом Волхов и позиции, на которых находятся красноармейцы, готовые к неудержимому броску через эту небольшую, но такую значительную в истории Русского государства реку. Сталин пытался вернуться в своих раздумьях к личности генерала Мерецкова, к которому относился своеобразно, только нечто, засевшее в подсознании и двинувшееся оттуда, мешало ему. Вождь напряг память, пытаясь вспомнить о неприятном, сделал усилие и вспомнил.
Четыре дня назад ему пришлось подписать уязвлявшее его самолюбие письмо к Черчиллю. Сталин помнил эти строки наизусть: «Мне кажется, что Англия могла бы без риска для себя высадить двадцать пять – тридцать дивизий в Архангельске или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР по примеру того, как это имело место в прошлую войну во Франции. Это была бы большая помощь…»
Как он мог опуститься до того, чтобы, смирив гордость, звать английскую армию в Россию?! И ведь знал, был уверен, что Черчилль не даст ему ни одного солдата, а просил… Именно это уязвляло Сталина. И даже себе не захотел бы он признаться, что просьба, обращенная к Черчиллю, проистекала от чувства смятения, которое охватило его, когда пали Смоленск, Киев, немцы захватили Шлиссельбург, перерезав коммуникации Ленинграда.
Ему было стыдно от мысли, что Сталин, известный миру железной волей и несокрушимой уравновешенностью, вдруг на мгновение проявил такую понятную в тех условиях человеческую слабость. Нет, понятную и человеческую – это для других. В обиходе Сталина нет таких категорий. Он сделал над собой усилие и усмехнулся.
«Победителей не судят, – подумал Сталин, привычно возвращая себя в состояние уверенности и волевой собранности. Он уже считал, что это был всего лишь дипломатический маневр, а вовсе не такая несвойственная ему, Сталину, растерянная просьба о немедленной помощи. – Скоро, господа союзники, мы станем получать ваши поздравления…»
Мысли его вернулись к Волховскому фронту, к генералу Мерецкову. Сталин как бы спохватился. Он резко задернул штору и повернулся к столу.
Помедлил, размышляя. Потом пересек кабинет мягкой, вкрадчивой походкой, опытный и старый, но сохранивший силу тигр. Позвонил помощнику.
Когда в дверях возник Поскребышев, он увидел вождя в обычной позе с трубкой в руке.
– Вызовите Мехлиса, – распорядился Сталин.
6
Трудно сказать, почему комбат Федор Скублов взял Степана к себе связным. То ли пожалел красноармейца, из-за невысокого роста да худобы Чекин казался и вовсе малолетком, то ли посчитал, что на переднем крае от него небольшой толк, так пусть останется при нем, чтоб не брать из траншеи полноценного красноармейца… Словом, попал Степан Чекин комбату под крыло и не раз благословлял судьбу. Федор Федорович научил его почти всему, что знал сам, разве что самолетом управлять не учил за неимением такового. Был Скублов раньше летчиком, да за какой-то грех, о нем комбат не распространялся, попал в пехоту.
Осенью батальон отошел с остальными частями к Ораниенбауму. Хватил Чекин лиха и там, а потом воевал на Пулковских высотах, у Восьмой ГЭС, не пускал немцев в Ленинград. К зиме батальон обосновался на Невской Дубровке, на правом берегу реки. А на левом – немцы… Так и стояли друг против друга. Время от времени приезжали из штаба решительные такие командиры, спрашивали комбата: «Хочешь Героем стать? Готовь атаку на тот берег». Если б Скублову так вот и предложили выбирать – другое дело. А у них еще и приказ на захват плацдарма лежал в планшетке. А куда ты против приказа? По команде мчались через невский лед, стремясь пересечь открытое пространство. Немцы стреляли по бегущим вполне прицельно, но поначалу били из орудий позади, чтобы вскрыть лед и отрезать русским отступление.
Однажды, возвращаясь после одной из таких атак, а если быть честным, то попросту удирая со всех ног к своему берегу, Чекин вилял-вилял мимо дырок во льду и промахнулся: врезался в полынью. А мороз был страшенный. Ему успели подать руку. Неизношенное сердце выдержало ледяной удар. В траншее разрезали на Степане заледеневшую одежду, а ноги оказались сухими, потому как бегал он к немецкому берегу в ботинках и обмотках. Тогда и понял Чекин, что эта обувка получше будет для бойца, нежели сапоги.
В часы затишья комбат Скублов учил Степана разбираться в оружии. И в отечественном, и в трофейном. Особо рьяно взялся за связного после того, как тот чуть не поднял их с комиссаром на воздух. А началось все с офицерского ремня. Ремень ему, Степану, подарил комбат. И в тот же день выдали связному автомат ППД и четыре осколочные гранаты, страшные в умелых руках, приемистые для броска из укрытия. Приладил Степан ремень по щуплой талии и видит: слева и справа тренчики висят, колечки такие. И на гранатах колечки. Смекнул – вот сюда их и цепляют. Припомнил кинофильмы про Гражданскую войну. Там, в кино, к поясу за кольца вешали «лимонки» анархисты и революционные матросы. Подвесил гранаты и Чекин, по две на каждую сторону, автомат на грудь и отправился показаться комбату.
Вошел в землянку, улыбаясь и ожидая одобрительного восклицания. Но комбат как увидел его, так и замер. Чекин двинулся было вперед, пытаясь что-то объяснить, но Скублов придушенно проговорил: «Не подходи… Стой на месте!» Степан остановился. Комиссар осторожно приблизился к нему, медленно расстегнул пояс с гранатами, бережно отнес их в угол, опустил и едва выпрямился, как Федор Федорович, успев прийти в себя, с левой руки, он был левшой, залепил связному оплеуху вполсилы. И то Степан едва устоял на ногах.
Тогда и стал Федор Федорович учить связного разбираться в оружии. Ну и повоевать ему давал. Ходил с ним на позиции. Они брали винтовку с оптическим прицелом, постреливали по немцам, в сорок первом фашисты были наглые и беспечные. Когда пятерых на Степановый счет записали, присвоили ему звание сержанта. А после Нового года простился комбат со связным.
– Ты теперь уже не птенец, Степан, – сказал Федор Федорович. – Прямо скажем – молодой ястребок. Вот и поезжай учиться в военное училище на командира. Глядишь, и меня обгонишь, закончу войну под твоим началом…
…Впереди закричали:
– Не растягиваться! Подходим к берегу…
«Неужели мы все озеро пересекли? – подумал Степан. – Всю Ладогу по льду… Рассказать бы ребятам в классе. Нет, не поверят».
Сержант Чекин не знал, что пересекли они только одну из бухт Ладожского озера. Степан многого еще не знал. Он радовался концу ледового пути и мечтал о коротком отдыхе, на другое рассчитывать не приходилось. Потом их роту посадят в эшелон, и начнется длинный и интересный путь до Барнаула, о котором ребята только и знали, что это город в Алтайском крае. Пройдут месяцы учебы, их петлицы украсят малиновые кубари, может быть, дадут отпуск, и Степан приедет в Москву, повидать маму и покрасоваться во дворе в новенькой лейтенантской форме.




