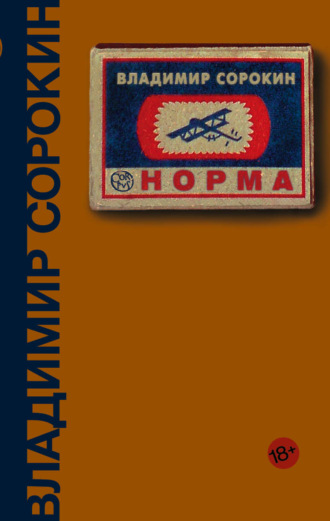
Владимир Сорокин
Норма
– Точно. – Аня колола орехи, выбирая из скорлупы в стакан.
– Машка приходит – вся разодетая, в янтаре, в кримплене. «Эра, дай взаймы». И знает ведь, к кому идти.
– Это конечно.
– К Соловьёвым сунулась однажды – отказали. А я вот просто, Ань, и не могу отказывать. Не умею.
Эра кинула яичную скорлупу в ведро и металлическим веничком стала взбивать яйца с песком.
– Ты у нас Христосик.
– Сама себя ругала не раз, дура, чего я, действительно? А вот не могу. А Машка сотню – цап! И до свидания. На следующий день загул у них. Гости. В получку отдаст, в конце месяца – опять.
– А он не заходит?
– Нет, что ты. Это же элита, разве снизойдет до технократии какой-то? У них и гости все такие – индюки. В замше да в коже.
– А он член союза?
– Давно. Трехтомник выходит, Машка говорит.
– Не читала ничего?
– Читала, Ань. Муть мутью. Производственный роман. Он любит её, она в завкоме, он бригадир. Бригада – завалящая, из последних. Не справляется. Бригада сыпется, текучка кадров. Она его критикует. А он ревнует её к главному инженеру. Кончается всё, правда, хорошо. План перевыполняют, и они женятся. Старый литейщик тост говорит. Молодые хлопают. Всё.
– Кошмар…
– Да, еле до конца осилила. Вообще-то у него сборничек рассказов есть. Там лирика такая деревенская. Вроде и ничего, но с другой стороны – сколько можно? Надоело.
– Крем сейчас будем или после?
– Потом. А то опадёт. Дай-ка муку мне.
Аня передала.
Эра отмерила два стакана, высыпала в миску добавила подтаявшего масла, стала мешать деревянной ложкой.
– Эр, а орехи сразу или потом? Сверху?
– Нет, сразу. В том-то и дело. Это не «Полёт». Ты тогда давай орехи с нормой мешай.
Аня сняла с буфета накрытую тарелку. Под крышкой лежали четыре нормы. Три были потемнее, одна совсем свежая – оранжево-коричневая. Аня высыпала в нормы орехи, помешала ложкой:
– Эр, а Колиному министерству норму кто поставляет?
– Детский сад.
– Оно и видно. Вон какая светленькая. Мы интернатовскую едим. Ничего, конечно, но не такая… Как пахнет сильно, Эр. Всё-таки запах ничем не отбить.
– Испечём, постоит, и никакого запаха.
– Правда?
– Ага… Перемешала? Давай сюда.
Аня передала тарелку, Эра счистила тягучее содержимое в тесто, подсыпала муки и стала засучивать рукава.
Лифт плавно остановился, светло-зелёные двери разошлись.
Николай Иванович вышел в вестибюль.
Стоящий у проходной милиционер повернулся, отдал честь. Николай Иванович кивнул головой, минуя его, толкнул стеклянную дверь.
У подъезда прохаживались двое милиционеров в шинелях. Заметив Николая Ивановича, они остановились и приложили руки к вискам.
Николай Иванович кивнул им.
Машина стояла рядом. Вышел шофёр, открыл заднюю дверцу:
– Добрый вечер, Николай Иваныч.
– Добрый вечер, Коля. – Николай Иванович кинул папку на сиденье и сел сам.
Шофёр проворно обежал мощный чёрный перед, сел за руль, завёл и плавно тронул.
Проехали коротенькую аллею, уперлись в серебристые ворота, которые стали медленно расходиться. За воротами стояла чёрная «Волга» охраны. Возле «Волги» прохаживались трое в плащах.
Ворота разошлись, лимузин проехал мимо «Волги».
Трое хлопнули дверцами, «Волга» тронулась следом.
– Домой, Николай Иваныч?
– Ага.
Свернули на Кутузовский, понеслись по середине.
– Сегодня, Николай Иваныч, «Спартачок» наш «сапогам» наложит. Как пить дать.
– Не говори гоп… – Николай Иванович приспустил стекло.
– Вот увидите. Он «Химику» как в субботу, а? Здорово!
– Химик не ЦСКА.
– Ну, разные, конечно, но семь-ноль выиграть – это тоже суметь надо. Счёт – будь здоров.
– Посмотрим. – Николай Иванович зевнул, снял шляпу и положил на папку. – Чего-то хмурится. Дождь пойдёт.
– Пойдёт, конечно. Вон как заволакивает. Мокрая осень какая-то. Прошлый год сухая была. Картошку копали – одно удовольствие. Ни грязи, ничего. А щас меси вон…
– А вы не копали ещё?
– Какой там! Куда ж в такую грязь.
– Смотри, сгноишь.
– Да в эту субботу попробуем…
Свернули в переулок, подкатили к восьмиэтажной башне. «Волга» остановилась рядом, охранники вышли, озираясь, обступили лимузин. Шофёр открыл дверцу, Николай Иванович выбрался, подхватив папку и шляпу. Рыжеволосый охранник открыл дверь подъезда.
Николай Иванович кивнул ему и пошёл по серо-коричневой ковровой дорожке. Широкоплечий лифтер вышел из-за стола:
– Добрый вечер, Николай Иванович.
– Привет.
Подъехал лифт, разошлись двери.
Николай Иванович вошёл, утопил кнопку «3», посмотрел на себя в зеркало.
На этаже вышел, позвонил. Дверь открыла Лида.
– Привет. – Николай Иванович поцеловал её в щёку.
– Привет. – Она ответно поцеловала его. – Почему без шляпы ходишь? Франтишь? Я из окна видела. Заболеешь.
– Да я из машины только…
– Смотри, простудишься. Устал?
– Есть немного. А мать где?
– У Веры.
– Аааа…
– Ужинать щас будешь или после?
– Давай щас. Там хоккей в семь…
Лида помогла ему раздеться. Николай Иванович вынул из плаща норму:
– Отнеси на кухню.
– Что, долго заседали?
– С трёх.
Она ушла на кухню, крикнула оттуда:
– Рыбный суп будешь или харчо?
Николай Иванович надел тапочки:
– Харчо.
Лида загремела тарелками.
Николай Иванович сходил в туалет, вымыл руки и, засучивая рукава рубашки, прошёл сквозь бамбуковую занавеску на кухню.
Лида, напевая, резала балык:
– Садись давай. Я Аньку отослала, а сама хозяйничаю.
– А что такое?
– А она простыла где-то. Сопливая вся.
– А… Поешь со мной?
– Нет, папочка, я обедала недавно. С мамой мы поели. А ужинать рано ещё. Садись.
На столе дымился харчо, стояла бутылка «Мукузани», грибы, ветчина, паюсная икра в розетке.
Норму Лида выложила в блюдце.
Николай Иванович взял ложку, придвинул норму зачерпнул, вяло прожевал.
Лида разложила балык на тарелочке, вытерла руки о висящий на стене фартук, села напротив.
Николай Иванович неторопливо жевал норму.
– К Никитичу ездил? – Лида подперла подбородок рукой.
– Ездил.
– Ну и как? Освоился на новом месте?
– Да не очень… не справляется что-то. Только и новшеств, что ворота посеребрил…
– Ну, пыль в глаза пустить это он любит. А сам как?
– Тоже неважно. Опухший какой-то. Пьёт, наверно.
– Пьёт, конечно. Сергея Петровича шофёр рассказывал, как вёз его, пьяного, с дачи.
Николай Иванович поскрёб с блюдца коричневые остатки, облизал ложку и придвинул харчо:
– Ух ты, густое-то, а?..
– Ты балыка возьми, грибы вот…
– Я вижу. – Он хлебнул раз, другой, налил вина, выпил и заел куском балыка. – Мать давно уехала?
– Часа в четыре. Да, чуть не забыла – тебе Николаич звонил.
– Так я ж перед отъездом говорил с ним.
– Ну, не знаю. Может, вспомнил чего. Знаешь как – хорошая мысля приходит опосля.
– Тоже верно…
Николай Иванович хлебал харчо.
Лида встала, подошла к плите:
– А на второе Анька котлеты сбацала. Из индейки.
– Положи мне половинку.
– Чего так?
– Больше не хочу.
– А картошки?
– Тоже малость.
Он доел харчо. Лида поставила перед ним тарелку со вторым.
Николай Иванович подцепил картошку, прожевал, отложил вилку:
– Аааа… это он, наверно, насчёт шестого… я щас…
Он встал, прошёл через коридор и гостиную в кабинет, поднял трубку красного телефона без циферблата:
– Три семьдесят восемь… Алексей Николаич? Это Николай Иваныч. Тут мне Лидочка передала. Ага. Аааа… ясно… ну я так и думал… ага… ага… так… так… и что? Вот как? Ну так это ж их хозяйство, пусть они и решают. Конечно. Да и тебе волноваться на этот счёт не надо. Пусть они волнуются. Сами заварили, сами пусть и расхлёбывают. Точно. Точно. Конечно. Да. Конечно. Да. Седьмого. Точно. Под Архангельском сорвалось, так они решили здесь… да… так это получается – шило на мыло. Мне Фёдоров вчера докладывал… да… деньги убухали, а природа виновата. Да. Сначала на электронщиков валили, теперь на вечную мерзлоту. Да. Точно, а теперь, значит, Рябинкин виноват, он не предусмотрел! Нашли козла отпущения. Да. Конечно, он ведь ясно сказал, ты помнишь? Да. Нечего, конечно! А с ними я завтра поговорю, пусть они Рябинкина не трясут. Да. Пусть своих трясут. Да. Хорошо. Хорошо. Ладно, Алексей Николаич, до свидания…
Он положил трубку, посмотрел на часы и побежал в гостиную.
– Уююююю! Проворонил!
Включил телевизор, сел в кресло.
– Папа! Компот или чай? – крикнула из кухни Лида.
– Чай! – Николай Иванович шлёпнул себя по коленкам.
Экран расплылся, зарябил цветами.
Судья показал вбрасывание в зоне ЦСКА. Крутов перелезал через бортик. Шалимов сидел на скамье штрафников, обматывая вокруг клюшки распустившуюся изоляцию.
По дороге купили «Каберне» и триста грамм «Мечты».
Бутылку с косо приклеенной этикеткой Серёжа сунул в карман плаща, опустив туда же и руку. Кулёк с конфетами Оля убрала в сумочку. Возле шашлычной перешли на ту сторону. Серёжа взял Олю под руку, снял с её непомерно длинного шарфа пожелтевший лист, протянул:
– Тебе на память.
– От кого? – Оля насмешливо улыбнулась.
– От осени, наверно.
– Спасибо.
Она взяла лист, сунула веточку в рот. Серёжа шел, балансируя на бетонном бортике тротуара:
– Вообще с таким шарфом страшновато.
– Что, не нравится?
– Да нет, красивый. У Айседоры, наверно, был такой же.
– Странная аналогия.
– Ничего странного. Страшновато.
– Серёженька, сейчас нет открытых ландо. Так что не беспокойся.
– Зато есть троллейбусы, автобусы. Сама внутри, а шарф под колесом.
– Ну спасибо.
Серёжа обнял её, притянул к себе. Она качнулась, каблучки неловко процокали по мокрому асфальту:
– Упаду.
– Поднимем.
Он поцеловал её в уголок губ.
– Веди себя прилично.
– Веду. Себя и тебя. Вполне прилично.
Свернули в переулок, прошли несколько домов. Переулок перегородила канава.
– Ух ты, – Серёжа заглянул в канаву, столкнул ногой комок земли, – перегородили усе путя. Как ты по вечерам тут ходишь?
– На ощупь.
– Кошмар.
– Один пьяный уже свалился.
– Случайно не твой бывший муж?
– Не хами.
Перебрались через канаву, зашли во двор.
– А вот подъезд – хоть убей… – Серёжа сощурился. – Вон тот, а?
– Угадал.
– Не угадал, а вспомнил.
Вошли в подъезд. В лифте он обнял её и поцеловал в губы. Оля раскрыла сумочку, достала ключи.
Вышли из лифта.
Оля отперла дверь, вошла. Серёжа следом.
В квартире был полумрак. Оля кинула сумочку под вешалку, сняла вязаную шапку и тряхнула рассыпавшимися волосами.
Серёжа повесил фуражку на деревянный штырёк, привалился к стене:
– Даааа. А обои когда успела?
– Весной ещё. Когда развелись. Мне те никогда не нравились.
– Мне тоже.
– Раздевайся.
Она сняла пальто, скинула сапоги. Серёжа вынул бутылку из кармана, снял плащ. Оля кинула шарф на вешалку и, подхватив бутылку, двинулась было на кухню, но Серёжа поймал её руку.
– Что? – тихо спросила она.
Он поцеловал её в губы, отвёл волосы и поцеловал в висок. Она поставила бутылку на пол, обняла его.
Они долго целовались в полумраке. Оступившись, Оля опрокинула бутылку. Бутылка покатилась к двери.
За руку он втянул Олю в комнату.
– Здесь бардак страшный. – Оля отстранилась на мгновение, потом снова обняла его.
Серёжа скользнул руками под её бежевый свитер. Оля вздохнула, взъерошила его волосы. Он нашёл её грудь, подвёл к кровати, повалил. Оля стала целовать его в лоб, в глаза, но вдруг упёрлась руками в плечи:
– Погоди, я дверь не заперла, кажется.
Бесшумно прошла в коридор. Щёлкнул замок.
Вернулась, задернула шторы. Стало ещё темнее.
Сняла свитер через голову, расстегнула джинсы:
– Скинь покрывало.
Серёжа стянул с кровати зелёное покрывало. Под ним было тонкое одеяло в старом комканом пододеяльнике и расплющенная подушка с торчащей из-под неё розовой ночной рубашкой.
Оля вылезла из джинсов и шагнула к Серёже. Он обнял её, стал целовать в шею, в худые ключицы. Оля расстегнула его рубашку, он содрал её с себя вместе с майкой, сдёрнул брюки и трусы.
Обнявшись, упали на кровать.
Оля расстегнула лифчик, бретелька перепуталась с цепочкой. Серёжа поцеловал её грудь, скользнул рукой в трусики. Олины ноги разошлись и снова сошлись в коленях. Прижавшись к нему, она тёрлась ртом о его щёку. Он потянул трусики, она приподнялась. Трусики скользнули по ногам. Серёжа лёг на неё, сжал бессильные худые плечи. Цепочка тряслась между ними. Ноги её быстро раздвинулись. Мгновение он лихорадочно искал на ощупь, Олина рука скользнула вниз и умело направила. Лобки их сошлись. Серёжа замер, уткнувшись в её волосы. Ноги её поднялись, оплели его бедра. Он стал двигаться. Руки ушли под подушку. Оля быстро целовала его лицо. Губы её раскрылись, она громко дышала. Серёжа путался ртом в её волосах. Вскоре Оля стала дышать чаще, язык её прошёлся по губам, пальцы сжали Серёжины плечи:
– Быстрей, Серёженька… вот… вот… вот… вот… так, ой… оо-оо… так… так, Серёженька, вот… вот… так…
Серёжа стал двигаться быстрее.
Олины ноги дрожали, тёрлись о его:
– Быстрее… быстрее… ещё… вот… вот…
Гримаса исказила её лицо:
– Быстрее… вот… вот… вот… еще… немного… милый… аааа!!!
Оля вскрикнула, впилась ногтями в Серёжины плечи. Ноги её согнулись в коленях. Серёжа вздрогнул, застонал в её волосы. Минуту они лежали неподвижно. Потом Серёжа откинулся на спину. Кровать была узкой. Они лежали рядом, вплотную прижавшись друг к другу. Оля чмокнула его в щёку, приподнялась, вытащила из-под подушки ночную рубашку, подтёрлась и прошлёпала в ванную.
Серёжа вытерся этой же рубашкой, лег на спину, закинул руки за голову. В ванной шелестела вода.
Серёжа вздохнул, скомкал испачканную рубашку, сунул под одеяло. Вода смолкла, ухнул сливной бачок.
Оля вошла, легла на него, сжав ладонями щёки, поцеловала в губы:
– За что ты мне нравишься – то, что никогда не клянёшься в любви. Не как остальные.
– Могу поклясться.
– Тогда больше ничего не будет.
Она сжала ладонями его губы, отчего они стали похожи на рыбий рот.
– Чего – ничего?
– Ничего.
Он обнял её, провёл руками по спине и положил на ягодицы, хранившие на себе водяные брызги:
– Ты прелесть.
– Что ты говоришь!
– Прелестная прелесть.
– А мы вам не верим.
– Ты чудесная.
– Что ты говоришь!
– Афродита.
Он поцеловал её подбородок.
Оля водила пальцем по Серёжиным бровям:
– Скажи лучше, когда я могу рассчитывать на продолжение.
– Скоро.
– Скоро – это как? Через час?
– Нет. Скоро.
– Ясно. Вот что, давай перекусим, пока ты не заснул.
– А ты жестокая.
– Ты ещё меня не знаешь.
Оля встала, достала из шкафа халат:
– Пошли поедим. Ты небось на своём институтском пайке?
– Вообще-то я сегодня только завтракал…
– Оно и видно. Чтобы вашего брата раскачать, надо его сперва долго и упорно кормить мясом. Иди. Живо… Правда, мяса у меня не предвидется.
Она убежала на кухню.
Серёжа надел трусы, пошёл за ней.
– Прихвати бутылку! – крикнула Оля. – И норму мою из сумочки тоже.
– Да и у меня… фу ты… – Серёжа поднял бутылку, достал из своего плаща пакетик с нормой, потом из Олиной сумочки её.
Оля стояла у плиты, вырезала из маслёнки кусочки масла и бросала на сковородку.
– Не обожгись смотри. – Серёжа положил оба пакетика на стол и стал срезать пробку с бутылки.
– Не боись. – Оля обернулась. – Принёс. Ага. И твоя. Слушай, давай-ка мы щас из этих норм кое-что сочиним.
– Давай.
– Распечатывай.
Серёжа стал разрезать целлофан:
– Вообще, между нами девочками говоря, я бы эти нормы поджарил.
– Логично. Кстати, когда твоя ненаглядная кам бэк?
– Двенадцатого.
– Скоро.
– Разрезал, Оленька…
– Давай сюда.
Оля бросила нормы в шипящее масло, стала членить их ножом:
– Во, одна свежая, одна сохлая.
– Свежая твоя. Экономистов ценят выше кибернетиков.
– Ещё бы.
Оля расчленила нормы, достала из холодильника четыре яйца, пакетик сливок, майонез. Разбила яйца в миску, плеснула сливок, положила майонеза, быстро размешала и вылила на сковороду.
– Вот. У французов есть такой омлет со свежей клубникой. Только у нас вместо клубники…
– …земляника.
Точно. Вообще, – она вытерла пальцы, – только наши дураки могут придумать – норму жевать в чистом виде. Зачем? Уж лучше с чем-то. Можно вообще запекать, например. Ну, там, в тесте как-нибудь. К мясу приправой, например. А то – жуй сухую! Нет, всё-таки неповоротливые мы какие-то. Французы б новый раздел в кулинарии открыли. Пирожки с нормой. Пирожное из нормы, мороженое… А тут – жуй сухую.
Серёжа постучал согнутым пальцем по столу, железным голосом процедил:
– Майор Пронин, ау!
Оля засмеялась, сняла с огня готовый омлет, подставила на железную решёточку перед Серёжей:
– Навались!
Серёжа протянул ей чашку с вином:
– За тебя.
– Спасибо, солнышко…
Чокнулись, выпили.
Оля села напротив, откусила хлеба, ткнула вилкой в дымящийся омлет, подула, попробовала:
– Ничего…
– Пища богов.
Серёжа наполнил чашки:
– За встречу теперь?
– Можно.
Чокнулись. Серёжа в два глотка осушил чашку, стукнул дном о стол:
– Амброзия…
Оля пила медленно, голый локоть её поднимался.
Быстро съели омлет.
Насадив кусочек хлеба на вилку, Оля протёрла сковородку:
– Блеск.
– И я говорю – пища богов. – Он вытер губы о сгиб локтя, разлил остатки вина.
Оля встала, поставила сковороду на плиту.
Серёжа с двумя чашками подошёл к ней, протянул:
– За твои глазки, волосы, плечи и тэ дэ.
– Что – тэ дэ?
– Тэ дэ…
Он поцеловал её в шею, провёл рукой по животу, скользнул за отворот халата. Оля отстранилась, выпила. Серёжа тоже.
Постояли, разглядывая друг друга.
Серёжа улыбнулся:
– Есть предложение.
– Конструктивное?
– Ага. Ахнем об пол? На счастье?
– Э, нет, парниша! – Оля выхватила из его рук чашку. – У меня их всего три осталось.
Она поставила чашки на стол.
– А почему так мало?
– Одну я кокнула, а четыре Витька забрал. После развода.
Серёжа засмеялся, подхватил её на руки.
В коридоре зазвонил телефон. Серёжа понёс Олю в коридор.
Не слезая с его рук, она взяла трубку:
– Да. Что? Нет, это квартира.
Серёжа поцеловал её в шею.
Оля бросила вниз трубку, но промахнулась. Трубка ударилась о телефон, соскочила вниз и закачалась на шнуре.
Николай разрезал пакет, вывалил норму на тарелку.
Скомкав пакет, швырнул в мусорное ведро, достал из шкафа ложку, банку вишнёвого варенья, открыл, сел за стол.
Норма была старой, с почерневшими, потрескавшимися краями.
Николай наклонил банку над тарелкой. Варенье полилось на норму. Тесть в третий раз заглянул из коридора, вошёл и, заложив худые руки за спину, покачал головой:
– Значит, вареньицем поливаем?
Николай прошёлся тягучей струей по последнему тёмно-коричневому островку и поставил банку. Кирпичик нормы полностью покрылся вареньем. Вокруг него на тарелке расплывалась вишнёвая лужица, сморщенная ягода медленно сползала по торцу.
– В пирожное превратил. – Узкое лицо тестя побледнело, губы подобрались. – Как же тебе не стыдно, Коля! Как мерзко смотреть на тебя!
– Мерзко – не смотрите.
– Да я рад бы, да вот уехать некуда от вас! Что одна дура, что другой! Как вы надоели мне! Ты посмотрел бы на себя!
Николай отделил ложкой округлившийся уголок, сунул в рот.
Варенье поползло по образовавшейся ложбинке.
Тесть оперся руками о стол:
– Ну она дура, она не понимает, что творит. Но ты-то умный человек, инженер, руководитель производства! Неужели ты не понимаешь, что делаешь? Почему ты молчишь?!
– Потому что мне надоело каждый месяц твердить одно и то же.
Николай отделил кусочек побольше:
– Что я не дикарь и не животное. А нормальный человек.
– А я, значит, – дикарь? Животное?!
Николай спокойно отправил в рот очередной кусочек:
– Вы, Сергей Поликарпыч, зря нервничаете.
– А что ж мне делать прикажешь, а?! Спокойно смотреть на вас?!
– Ну а чего переживать-то зря?
– Как это – чего?! Как это – чего?!
Николай улыбнулся, жуя норму:
– Да успокойтесь а, ну что в самом деле…
Лицо тестя побелело, губы затряслись:
– Ты вот что, ты не дерзи мне! Слышишь?! Я тебе в отцы гожусь! Ишь, взял манеру разговаривать!
Медленно жуя, Николай хмуро смотрел на него:
– А чего такого-то?
Трясясь и дёргая головой, тесть судорожно дотянулся кулаком до края стола, ожесточённо застучал:
– Я… управу на тебя найду, найду! К начальнику твоему пойду, к Селезнёву! Хулиган! Издеватель!
Николай недовольно мотнул головой:
– Слушайте, идите отдохните… успокойтесь…
– Я тебе дам – успокойтесь! Я тебе покажу – успокойтесь!!
Тесть надвигался на него, дико тараща глаза.
Николай громко хлопнул ладонью по столу:
– А ну вон отсюда! Вон!!!
Тесть вздрогнул и испуганно попятился к двери.
– Вон! Пшёл отсюда! – Николай угрожающе выпрямился.
Тесть попятился и исчез за дверью.
Сидящие в луже голуби поднялись от наехавшего грузовика, пролетели над головой Купермана.
Грузовик обдал водой стоящий на обочине «Запорожец» и свернул за угол.
Куперман двинулся вдоль запертых ярмарочных павильонов. Только что прошёл дождь. Ярко размалёванные стенки были мокры, с шиферных крыш капало. Возле пивного ларька толпились несколько человек.
Один из вспорхнувших голубей покружил над ларьком и сел на крышу. Куперман свернул, прошел метров сто и оказался на набережной. Кругом тянулся мокрый асфальт, проезжали редкие машины. Прохожих не было. Куперман приблизился к каменному парапету и, облокотившись на него, посмотрел вниз.
Вода была свинцово-серой, чувствовалось, что скоро стемнеет. Мелкая рябь покрывала реку.
Куперман оглянулся. Никого.
Он быстро вытащил из кармана завёрнутую в носовой платок норму, сильнее наклонился и незаметно выпустил её из платка вниз.
Коричневый брикетик плюхнулся в воду, скрылся, потом всплыл.
Куперман снова оглянулся, высморкался в носовой платок и не торопясь пошёл по набережной.
Проехал молоковоз и две легковые машины.
Куперман свернул в аллею, поднял пожелтевший кленовый лист и побрёл, разгребая ботинками мокрую листву.
На набережной остановилось такси, вылезли девушка с парнем.
Парень махнул таксисту, тот быстро развернулся и покатил.
Девушка забралась на парапет, выпрямилась. Спутник схватил её за руку:
– Упадёшь, ты что!
– Не бойся.
Балансируя, она двинулась по парапету.
– Ну, Лид, ты циркачка просто… – Парень рассмеялся. – Смертельный номер!
– Впервые на арене! – Девушка сняла с головы вельветовую кепочку, помахала ею. – Зрителей со слабыми нервами просим покинуть зал…
– Непревзойдённая канатоходка! Танец маленьких лебедей под куполом цирка! На проволоке!
Девушка расхохоталась, парень схватил её ноги:
– Слезай, а то нырнёшь.
Она глянула вниз и сощурилась:
– Смотри, что там…
Парень снял её с парапета, перегнулся.
Внизу плавала, тёрлась о гранит разбухающая норма.
– Кирпичик какой-то, Лень…
– Слушай, да это же норма.
Лицо парня стало серьёзным.
– А как же она здесь?
– Не знаю. Может, потерял кто.
– Не может быть.
– Чёрт его знает. А может, сволочь какая-то выбросила.
– Ты думаешь?
– А что! Вон в газете писали – один тип в урны выбрасывал. Завернёт в бумагу – и в урну.
– Ничего себе. Лень, а может, утонул кто, а?!
– Как?
– Да так! А норма всплыла!
– Да что ты. Глупости.
Парень разглядывал норму:
– Знаешь, надо б сказать милиционеру.
– А где ты найдёшь его?
– Проезжали когда, на перекрёстке стоял.
– Ааааа. Точно. Это ж рядом, пошли.
– Место заметить только.
Зашагали, взявшись за руки.
За мостом на перекрёстке прохаживался милиционер. Он был в длинной клеёнчатой накидке, полосатая палочка торчала из рукава.
Подошли. Парень заговорил:
– Товарищ милицанер, там вон мы увидели прям в воде, возле поворота, ну, где аллейка, там норма плавает чья-то…
– В воде? – переспросил милиционер.
– Ага.
– Точно норма? Не ошиблись?
– Точно, точно! – Девушка тряхнула головой. – Мы шли, в воду глядели, а она плавает.
– Близко от берега?
– Прямо у самого у гранита.
– И плавает?
– Плавает!
– Ну смотрите…
Милиционер отвернул полу накидки, поднёс ко рту микрофон на скрученном шнуре:
– Шестой, шестой… Саш, это Савельев с восемнадцатого… слушай, тут вот ребята норму в воде видели. Возле аллеи, ну, где поворот на ярмарку. К берегу прибило её. Ага. Скажи на станцию, пусть катер вышлют.
Он спрятал микрофон:
– Спасибо, ребята.
– Да не за что.
Парень с девушкой отошли.
Минут через пять на реке затарахтел катер, приблизился к набережной и медленно двинулся вдоль. Рядом с водителем в катере сидел милиционер.
В надвигающейся темноте норму разыскали с трудом. Она разбухла, частично развалилась.
Водитель осторожно упёрся носом катера в набережную, милиционер свесился с капроновым сачком, подцепил норму и потряс над водой:
– Четвёртый случай за два дня. Надо же!
Водитель закурил, кинул спичку за борт и стал отчаливать, разворачиваясь:
– Ну и что, не нашли?
– Найдём, – бодро кивнул милиционер и стал перекладывать норму в приготовленный бумажный пакет, – найдём, никуда не денутся…
– Мамуля! – Вовка загремел цепочкой, открыл дверь, бросился Юле на шею и повис: – Мамулька!
– Вовка! Упаду… – Юля согнулась, растопыря руки с авоськами. Вовкины ноги коснулись порога.
– Отпусти… Володя… задушишь.
Вовка отпустил, вцепился в авоську:
– Купила? Мороженое?
– Нет. Лучше. Пирожное.
– Правда?! Много?
– Нам хватит.
Они вошли в коридор. Юля стала раздеваться, Вовка, изогнувшись, потащил авоськи на кухню.
– Осторожней, там в красной яйца сверху. – Юля скинула туфли, сунула уставшие ступни в тапочки. – Оооо… хорошо-то как… Папа не звонил?
– Не-а.
Вовка разбирал авоськи.
– А тетя Соня не заходила?
– Не-а.
Юля вошла в спальню, сняла платье через голову, повесила в шкаф. Надела халат, крикнула:
– Ты ел что-нибудь?
– Чай пил.
– А котлеты с рисом не ел?
– Не-а.
– Почему? Я же специально оставляла.
Юля вошла на кухню.
– Да не хотелось, мам.
– Это непорядок. Иди мой руки.
– Я мыл уж, мам.
– Неправда. Иди, не обманывай.
Вовка убежал в ванную.
Юля нарезала свежего хлеба, поставила греться котлеты с рисом и чайник. Вовка вернулся, показал ей ладошки и сел напротив, болтая ногами. Юля убрала яйца и творог в холодильник, яблоки высыпала в раковину, пирожные разложила на коричневом блюде. Со дня авоськи достала норму, разрезала пакетик ножницами, положила подсохший комок на блюдечко.
Блюдечко поставила на стол.
– Во, засохшая какая. – Вовка потрогал норму пальцем. Под тёмно-коричневой корочкой чувствовалось мягкое содержимое.
– Не трогай. – Юля сняла шипящую сковороду с котлетами и рисом, поставила на кружок перед Вовкой. – Ешь.
Болтая ногами, Вовка насадил котлету на вилку и стал дуть на неё.
– Сядь нормально, не балуйся. – Юля набрала воды в стакан и принялась есть норму чайной ложкой, часто запивая водой.
Вовка жевал котлету:
– Мам, а зачем ты какашки ешь?
– Это не какашка. Не говори глупости. Сколько раз я тебе говорила?
– Нет, ну а зачем?
– Затем. – Ложечка быстро управлялась с податливым месивом.
– Ну, мам, скажи! Ведь невкусно. Я ж пробовал. И пахнет какашкой.
– Я кому говорю! Не смей!
Юля стукнула пальцем по краю стола.
– Да я не глупости. Просто, ну а зачем, а?
– Затем.
– Ну, мам! Ведь не вкусно.
– Тебе касторку вкусно было пить? Или горькие порошки тогда летом?
– Не! Гадость такая!
– Однако пил.
– Пил.
– А зачем же пил, если не нравилось? Не сыпь на колени, подвинься поближе…
– Надо было… Живот болел.
– Вот. И мне надо.
– Зачем?
– Ты сейчас ещё не поймёшь.
– Ну, мам! Пойму!
– Нет, не поймёшь.
Юля доела норму, запила водой и стала есть из одной сковороды с Вовкой.
– А может, пойму, мам!
– Нет.
– Ну это чтоб тоже лечиться от чего-нибудь?
– Не совсем. Это сложнее гораздо. Вот когда во второй класс пойдёшь, тогда расскажу.
– Аааа, я знаю! Это как профилактика? Уколы там, перке разные? Эт тоже больно, но все делают.
– Да нет… хотя может быть… ты ешь лучше, не зевай…
– А я, когда вырасту, тоже норму есть буду?
– Будешь, будешь. Доедай рис.
– Не хочу, мам.
– Ну, не хочешь – не надо. – Юля поставила полупустую сковородку на плиту, налила чаю. – Бери пирожное.
Вовка взял, откусил, подул на чай и осторожно отпил.
Вместо шипящей ароматной струи из пульверизатора, пузырясь, закапал одеколон.
– Засорился, ведь вот… – Прохоров сжимал резиновую грушу, но ничего не менялось. Одеколон капал на пол.
Прохоров вывинтил пульверизатор из пузырька, подул в изогнутый наконечник. Воздух проходил с трудом. Выдутый одеколон потёк по руке. Найдя в комоде иголку, Прохоров поковырял ею в головке и снова подул:
– Вот и лучше…
Он ввинтил пульверизатор, покачал грушу.
Прохладная струя с шипением вырвалась из головки.
– Порядок в танковых частях.
Прохоров задёрнул шторы. В комнате стало сумрачно. Притворив дверь, он снял с комода зелёный баллончик аэрозоля «Хвоинка» и стал распылять над столом.
Когда терпкий запах хвои заполнил комнату, Прохоров достал из кармана два ватных тампона, засунул в обе ноздри, включил телевизор и сел за стол. На нём стояла перевёрнутая кверху дном кастрюля.
Прохоров приподнял её. Под кастрюлей на блюдце лежал пакет с нормой и ножницы.
Экран из серого стал голубым, зазвучала эстрадная музыка. Эквилибристы в блестящих костюмах раскачивались на трапециях.
Прохоров разрезал пакет, вытряхнул норму на блюдце и стал опрыскивать её из пульверизатора до тех пор, пока одеколон не скопился под ней желтоватой лужицей.
Эквилибристы перелетали с одной трапеции на другую, кувыркались в воздухе.
Отложив пульверизатор, Прохоров вытащил из нагрудного кармана пакетик с молотым перцем и тщательно поперчил норму. Потом схватил её и, стараясь не глядеть, стал откусывать и глотать не жуя.
Эквилибристы быстро спустились вниз, сделали синхронный кульбит и раскланялись, подняв правую руку.
Прохоров схватил пульверизатор, направил в набитый нормой рот, сжал грушу. Струя зашипела, холодя зубы.
На арену вышел клоун, театрально раскланялся. Из штанины его выскочила крохотная болонка, с лаем побежала по кругу. Клоун бросился за ней, споткнулся и упал.
Прохоров проглотил, попрыскал остатки нормы и запихнул в рот.
Болонка подбежала к лежащему клоуну и, вспрыгнув ему на голову поднялась на задние лапки.
Прохоров проглотил остатки, быстро отвернул пульверизатор и, запрокинувшись, отпил из пузырька.
Болонка завыла, сидя на клоуне. Зал засмеялся.
Прохоров поставил пузырёк на стол:
– Охооооо…хох… проехали… хт…
Он вытер ладонью обожжённый рот, вытащил тампоны из носа, положил на блюде.
Собачка продолжала выть, зал смеялся. Клоун приподнял полосатый зад и осторожно пополз за кулисы.
– Очень смешно… – буркнул Прохоров, комкая пакет из-под нормы. – Усраться можно от вашего юмора…
Тампоны набухли одеколоном, плавающие в лужице крупинки перца медленно стягивались к ним.
С ноги клоуна соскочил ботинок. Клоун высунулся из-за кулис, протянул руку. Ботинок взвился и исчез под куполом цирка.
– А Чесленко что? – Винокуров переключил скорость, газанул.
– Говорит, работа слабая.
– Ну, а конкретно?
– Конкретно – экспериментальная часть куцая, говорит.
– Идиот!
Винокуров крутанул руль, машина повернула. Выехали на Ильинское. Бокшеев курил, пуская дым в окно. Соловьёв смотрел на стелещуюся дорогу.
– Ну, а старик-то? – не оборачиваясь, спросил Винокуров.
– Чего старик… старик сказал, конечно. Защищал. На промышленное внедрение нажимал, на сложность испытаний. Экономия большая, там, механические свойства высокие. А Чесленко потом по таблицам пошёл. Почему, говорит, устойчивость к интеркристаллитной коррозии так мало экспериментирована? И вообще, говорит, чёрные точки очень сомнительные. Элемент произвола.







