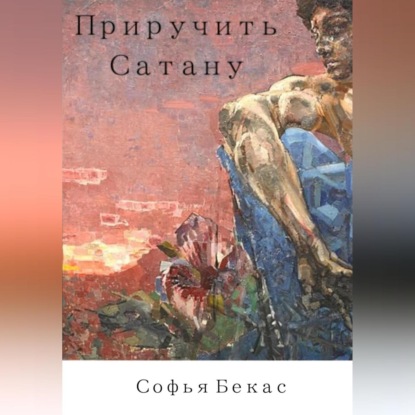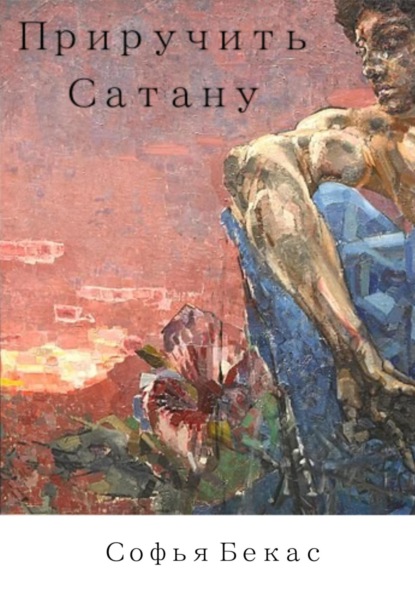
Полная версия:
Софья Бекас Приручить Сатану
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Софья Бекас
Приручить Сатану
О милое зло, что так искренне ласкается к праведнику…
5 февраля 2022 – 8 июля 2023
Предисловие
Дорогой читатель! Спасибо Вам, что читаете сейчас эти строки – мне, как автору, это очень приятно, – и, будьте так добры, дочитайте до конца это вступление (как видите, оно совсем короткое), чтобы у нас с Вами не было недопониманий. Мой долг как автора предупредить Вас. Пожалуйста, если Вы глубоко верующий, религиозный человек и понимаете, что представление Сатаны в положительном ключе может быть для Вас оскорбительным, то лучше закройте книгу на этой странице и не читайте дальше, дабы у автора и читателя не было напрасных разногласий. Считаю так же своим долгом обратить Ваше внимание на то, что «оправдание» Дьявола не означает преуменьшения достоинства святых: как ни как, одна из главных тем этого произведения – «добро всегда побеждает зло». Это всё, что я хотела бы сказать перед началом произведения. Приятного прочтения! С уважением, Автор
Глава 1. Пятница
А боги смеялись всё утро и вечер:
Смешила их фраза «случайная встреча».
Квартира была полностью охвачена мраком, и только один маленький островок света всё ещё существовал среди этой всепоглощающей тьмы. Стол и настольная лампа, освещающая словно высеченное из белого мрамора лицо. Вдруг длинные ресницы дрогнули; две секунды, и взгляд полностью сфокусировался на лежащей рядом книге. Все страницы давно перевернулись, и её обладательнице ещё долго придётся искать то место, на котором она остановилась.
Девушка неохотно проморгалась. За окном было темно, насколько это возможно в мегаполисе, и непривычно тихо. Деревья стояли, не шелохнувшись, только шелестели где-то далеко машины на эстакаде. Она посмотрела на часы: всего семь вечера. Действительность постепенно возвращалась в сонный мозг, как волна, мягко подбирающаяся к берегу. Окончательно проснувшись, девушка тут же схватила телефон в ожидании заветного сообщения. Надо признать, она уже особо и не надеялась, однако в этот раз засветившийся экран заставил девушку подпрыгнуть от радости.
«Добрый вечер, Ева. Я пишу по поводу объявления, размещенного Вами. Понимаю, Вы рассчитывали на другую должность, но мне сейчас необходима няня. Сможете? Если Вы согласны, то мы можем обсудить все подробности при встрече.
С уважением, всегда Ваш, Саваоф Теодорович Деволи́нский»
Ева замерла в сомнениях, но её замешательство продлилось всего секунду.
«Добрый вечер! Да, я согласна. Когда Вам будет удобно?
С уважением, искренне Ваша, Ева Викторовна Саровская»
Незнакомец написал адрес и время встречи, и беседа на этом закончилась. Ева мысленно поблагодарила его за то, что поставил над фамилией ударение, и со спокойной душой отправилась на кухню. Пока закипал чайник, Ева подошла к окну и выглянула на улицу: действительно, было удивительно темно и тихо, что очень не характерно для большого города, во дворе только светились фары оставленной кем-то машины; фонари не горели. В доме напротив зажглось единственное окно, и силуэт человека потянулся, чтобы задернуть занавески, но вдруг замер. Некоторое время Ева тупо рассматривала его, пока не поняла, что человек рассматривает её в ответ. Несмотря на то, что силуэт был полностью черным, девушка физически ощутила его взгляд: прожигающий, цепкий, колючий. Вдруг свет в квартире напротив погас, и она увидела его глаза. На выкате, они выглядели на мертвенно-бледном лице до ужаса инородно и смотрели зло, исподлобья; кривая усмешка медленно расплылась на бесцветных губах, обнажив ряд неровных зубов. Ева испуганно отпрянула от окна и задернула шторы.
На крыше дома напротив стояла чья-то тёмная фигура и рассматривала девушку в окне. Ни один человек с обыкновенным зрением не разглядел бы того, что происходило в квартире где-то далеко внизу, однако на крыше стоял вовсе не человек, а потому он спокойно наблюдал за нечётким силуэтом. Когда шторы закрылись, мужчина, немного постояв в задумчивости, вдруг шагнул вперёд и камнем начал падать вниз. Где-то на уровне десятого этажа его силуэт потерялся, и только пролетела в свете чьей-то квартиры маленькая летучая мышь.
***Заветная для Евы пятница длилась неимоверно долго. Незнакомец больше ей не писал, однако девушка часто заходила в полупустую беседу и подолгу, сидя на подоконнике и обняв себя за колени, задумчиво смотрела на подпись, отчего-то обратившую на себя её внимание. «Саваоф. Теодорович. Деволинский». Ева думала, что у неё символичная фамилия, но, глядя на имя перед собой, понимала, что и не такие совпадения бывают в жизни. Мысли о предстоящей встрече как-то невольно привели её к далёким-далёким воспоминаниям, как иногда тропа вдруг выводит из леса к необычайной красоты озеру: она вдруг почему-то вспомнила, что должна была родиться на Пасху, но родилась в Страстную пятницу. Этот факт периодически всплывал у неё в памяти и заставлял видеть в себе пока непонятное для Евы предзнаменование… А может быть, она уже нашла ему объяснение.
К счастью для Евы, нужный дом был на расстоянии всего пары станций метро, поэтому незадолго до назначенного времени она уже была на месте. Это был совсем пограничный район, практически за пределами города, где новостройки перемежались с коттеджами, а вдаль простирался тёмный лес, разделяемый пополам широкой полоской шоссе. Нужный дом, втиснутый между двумя похожими, девушка нашла довольно быстро. Приходить раньше назначенного времени было некрасиво, поэтому Ева решила скоротать его, прогулявшись по парку.
Узкая асфальтовая дорожка уходила по прямой вдаль и терялась среди темноты деревьев, но что-то тревожное было в этой обстановке. Что-то неестественное, напряжённое. Ева обернулась вокруг: она знала этот лесопарк, другим своим концом он упирался практически в её дом, но здесь она никогда не была, и даже темные деревья, казалось, шелестели на ветру как-то холодно и надменно. Вдруг от одного ствола отделилось большое черное пятно и, плавно покачиваясь, переползло на другой. Ева изумленно замерла. Может быть, ей показалось, но из-за старой, посеревшей от времени сосны высунулась чья-то чёрная лохматая морда и посмотрела прямо на неё своими белыми глазами светлячками, отчего Еву передернуло. Позади послышался звук тормозящей машины, и существо легкой дымкой кинулось в густоту парка.
– Ева?
Девушка обернулась. Позади неё стоял мужчина средних лет в строгом официальном костюме с короткой, но достаточно густой козлиной бородкой и усами. Он был высок и немного полноват, однако это вовсе не портило его, а скорее наоборот, добавляло солидности. Чёрные, как смоль, зачёсанные назад волосы блестели в лучах вечернего весеннего солнца, и в них иногда сверкала серебряными нитями редкая седина. Ева пробежалась взглядом по внешнему виду мужчины, поднялась выше, встретилась с ним взглядом и испуганно замерла: глаза были разного цвета.
– Ева Викторовна, полагаю? – с учтивой улыбкой повторил он, так и не дождавшись ответа.
– Да, это я, – она посмотрела на часы, но на них было только без двадцати.
– Саваоф Теодорович, – мужчина взял девушку за руку и слегка пожал. – Я увидел Вас, когда подъезжал. Подумал, что не можете найти нужный адрес.
– Благодарю, – коротко ответила Ева, улыбнувшись. – Я решила немного осмотреться до назначенного времени, но, раз мы уже встретились…
– Предлагаю пройти в дом, – перебил ее Саваоф Теодорович и, галантно взяв из её рук сумки, пошёл впереди.
Внутри всё было достаточно просто и минималистично. Оказавшись в небольшой уютной гостиной, Ева увидела пожилую женщину, которая сразу поспешила им навстречу. Она перекинулась парой фраз с Саваофом Теодоровичем на непонятном для девушки языке, после чего наскоро оделась и ушла.
– Присядьте.
Ева села.
– Видите ли, так уж сложилось в жизни, что мне не с кем оставить ребёнка. Её зовут Ада. Последнее время с ней сидит моя бывшая коллега, – он показал головой на входную дверь, – но она уже стара и не всегда справляется с поставленной задачей, – Саваоф Теодорович стянул пиджак и повесил его на спинку стула. – Ада не трудный ребёнок, только очень активная, – тут Саваоф Теодорович сделал паузу, явно для того, чтобы Ева осмыслила информацию. – Мне нужно, чтобы Вы сидели с ней по субботам и воскресеньям. Сможете?
– Да, но только если Вы готовы взять за неё ответственность на себя. Напоминаю, что я подавала объявление не на должность няни, – ответила Ева, секунду поразмыслив. Саваоф Теодорович слегка прищурился и усмехнулся.
– Вы хорошая девушка, Ева… – начал он, обходя стол по кругу. – Такая правильная…. Такая чистая… Такая… праведная… – Саваоф Теодорович сделал ударение на слове «праведная», отчего Еве стало не по себе. – По-другому и не скажешь! Но во всём есть изъян, верно? Недаром ведь говорят, что в тихом омуте черти водятся.
– K чему вы это? – Ева искоса посмотрела на приоткрытую входную дверь. Саваоф Теодорович, заметив это движение глаз, как-то надменно усмехнулся, и в то же мгновение дверь с громким звуком захлопнулась.
– А что такое, Ева? Боитесь? – Саваоф Теодорович прищурился, напомнив своим видом огромного хитрого и кровожадного змея.
– Бояться – это естественно.
– Бояться – это естественно, не спорю, – повторил за ней Саваоф Теодорович. Еве очень хотелось отвести глаза, но она сдерживала себя: у мужчины был слишком колючий взгляд. Слишком цепкий. Слишком проницательный, и выдержать его было тяжело. – Ну-ну, не тряситесь, как кролик перед удавом, – Саваоф Теодорович ядовито улыбнулся одним уголком губ. – Я Вас не укушу и не съем. Может быть.
– Ближе к делу, или я ухожу, – с внезапной твердостью в голосе вдруг сказала Ева, намереваясь встать. Саваоф Теодорович, очевидно, не ожидал подобной реакции, но приятно ей удивился.
– Вот это другой разговор! – вдруг сказал он веселым голосом, как будто не он только что шипел и извивался, как змея. – Просто нужно быть чуточку смелее и увереннее в себе, Ева. Не сердитесь на меня за мою странную проверку, просто без нее Вы бы вряд ли справились с Адой. Не желаете с ней познакомиться?
Ада оказалась маленькой девочкой примерно четырёх или пяти лет с большими глазами зелёного цвета – как и у отца, они были первым, на что обращали внимание. Эти два ярких изумруда сияли на ее лице, словно звезды, но их свет был какой-то приглушенный и даже тусклый, и пока Ева смотрела на маленькую девочку, ей казалось, что в этих зрачках отражается страшное, холодное равнодушие к жизни. Ева испугалась её взгляда не меньше, чем взгляда Саваофа Теодоровича.
– Я бы не сказала, что она очень активная, – сказала Ева, когда они спускались со второго этажа, где была детская, на первый.
– Это пока, – пробормотал себе под нос Саваоф Теодорович, приглашая девушку пройти на кухню, – а когда чуть-чуть привыкнет, не угонитесь.
– Сколько у Ады было нянь? – спросила Ева, опускаясь на краешек стула.
– Много, – ответил со вздохом Саваоф Теодорович, поправив волосы. – Хотите – верьте, хотите нет, но лишь немногие продержались дольше месяца, поэтому считаю своим долгом сказать Вам, что Вы можете отказаться от Ады в любой момент.
– Спасибо Вам.
Саваоф Теодорович поднял на неё свой раздвоенный взгляд и тихо усмехнулся.
– Думаю, не за что. Так Вы согласны?
– А у меня есть выбор?
Саваоф Теодорович медленно откинулся на спинку стула, не спуская глаз с Евы. Ей снова стало не по себе: ей вдруг представилось, как из этого красивого, статного мужчины вылезает огромный черный наг, готовый проглотить ее целиком.
– Вы задаете правильные вопросы, Ева, – он хищно улыбнулся, слегка приподняв уголки губ, но глаза его, пусть и разного цвета, остались холодны и пусты. – Действительно, а есть ли у Вас выбор?
Саваоф Теодорович все-таки отвел взгляд, отчего Еве сразу стало гораздо легче, и посмотрел куда-то в окно. На несколько мгновений повисло молчание. – Знаете, у меня к Вам просьба. Вы сможете побыть с ней уже сегодня? – Ева хотела что-то возразить, но он не дал ей этого сделать. – Я знаю, что мы об этом не договаривались, и пойму, если Вы откажетесь. Подумайте.
Некоторое время внутри Евы шла борьба, но, наконец, она глубоко вздохнула и положительно кивнула.
– Отлично, – Саваоф Теодорович направился к входной двери и накинул сверху тонкую ветровку. – Когда будете уходить, закройте дверь, пожалуйста.
В окно Ева видела, как Саваоф Теодорович сел в машину и, проехав сквозь дворы, вывернул на шоссе. Девушка ещё раз глубоко вздохнула.
Ада сидела на полу и играла с большим кукольным замком. Когда Ева, осторожно постучавшись, вошла в комнату, девочка даже не обернулась: казалось, она вообще не замечала ее присутствия, полностью погрузившись в свой личный мир, пусть вымышленный, но от того не менее прекрасный. Ева тихо подошла к Аде и опустилась рядом на колени. Девушка совершенно не знала, с чего начать, а потому просто наблюдала за играющим ребёнком, не желая вмешиваться в его личную идиллию. Наконец Ада отложила куклы и повернула голову к Еве.
– Мы будем гулять сегодня? – тихо и как-то грустно спросила она.
– Конечно, – встрепенулась Ева. – Хочешь, пойдем прямо сейчас?
На улице было довольно тепло, однако девочку пришлось нарядить в куртку и шапку, несмотря на то что сама Ева была в одной кофте. Выйдя на улицу, Ада оживилась и сама повела Еву на свою любимую площадку, которая оказалась неподалеку от входа в парк.
– Как тебя зовут? – спросила Ада, пока девушка качала ее на качелях.
– Ева.
– И теперь ты будешь моей няней?
– Да. Я буду приходить к тебе каждую субботу и воскресенье.
Девочка кивнула каким-то своим мыслям и замолчала.
– У тебя красивое имя.
– Спасибо, – Ева смущенно улыбнулась, продолжая покачивать качели.
– Папа говорит, что с этого имени началась его карьера.
«С этого имени началась его карьера, – задумчиво повторила про себя Ева, скупо зевая. – Главное, чтоб не закончилась».
Вдруг девочка спрыгнула с качелей, и Ева, погруженная в свои мысли, не сразу среагировала, а когда обернулась, Ада уже бежала среди деревьев.
– Стой! Вернись!
Конечно, девочка не услышала, и Ева побежала в ту сторону, где исчезла Ада. Как бы странно это ни было, но девушка никак не могла догнать маячивший впереди силуэт, периодически пропадавший за стволами деревьев. Казалось, Ада специально ее дразнила, и чем быстрее бежала Ева, тем дальше виделся ребенок, но как только девушка замедляла темп, тем медленнее шла Ада. Сколько бы Ева ни звала девочку, та либо её не слышала, либо не хотела слышать. Она совсем было выдохлась, когда вдруг Ада завернула за большой тополь и, заливисто засмеявшись…. Исчезла.
– Ада? Ада!
Всё было тихо: ни топота маленьких ножек, ни смеха. Где-то совсем близко шумело шоссе, к которому Ева и вышла. Оно было отделено от парка глухим забором, пробраться за который не было никакой возможности даже маленькому ребенку. Немного переведя дыхание, Ева пошла вдоль ограды, предположительно, в ту сторону, где был выход.
– Ада!
Через некоторое время Ева заметила узкую тропинку. Сначала она шла параллельно железной решетке, во многих местах заржавевшей, но потом свернула от шоссе в противоположную сторону и углубилась в парк. Большие деревья, видавшие на своём веку многое, как будто смотрели с высоты своего роста на маленькую Еву и указывали ей путь своими старыми, ослабевшими ветвями-руками. Ева не знала, куда шла. Она никогда не была здесь, а потому каждый поворот, каждый камушек казались ей чужими, неизведанными, и для них Ева, в свою очередь, тоже была чужой, неродной. Дорога пошла вверх, и вскоре девушка поднялась на высокий холм, с которого, как на ладони, был виден весь парк. Уже успевшие позеленеть после зимы деревья простирались далеко-далеко; вдруг они обрывались, и дальше начинался коттеджный посёлок вперемешку с недавно построенными высотками, откуда она недавно пришла.
Надо ли объяснять чувства Евы? Девушка растерянно оглянулась вокруг и уже собиралась уходить, когда вдруг увидела позади себя маленькую старую часовенку. Влекомая надеждой, что внутри кто-нибудь есть, она открыла ветхую деревянную дверь и заглянула внутрь. Когда глаза немного привыкли к полумраку, Ева увидела кладку из больших, местами плесневелых белых камней; у дальней стены стоял подсвечник с единственной зажжённой свечой, чье пламя горело ровно и стройно, освещая лик находящегося за ним святого. Ева подошла ближе. Иисус смотрел на неё спокойным, чуть укоризненным взглядом, и пламя свечи отбрасывало глубокие тени вокруг его измученного, уставшего лица. Еве казалось, будто она чувствует легкое, почти невесомое дыхание, а тепло исходит вовсе не от маленького огонька напротив неё. На сквозняке скрипнула дверь, и наваждение мгновенно рассеялось.
Ева сама не заметила, как сердце перестало отбивать бешеный ритм. Монументальное спокойствие Христа охладило разум, и теперь девушка думала, как лучше поступить. Даже не мысль – уверенность – совершенно четкая и ясная вдруг расцвела в ее голове, и Ева твердым шагом направилась к выходу из часовни. Алое зарево заката уже тронуло верхушки деревьев, когда она вышла на центральную аллею. Ни души: ни родителей с колясками, ни просто случайных прохожих. Вот и детская площадка. На качелях, как и три часа назад, сидела Ада.
Опомнившись после секундного изумления, Ева подбежала к девочке. Та смотрела на неё долгим изучающим взглядом, словно ничего не произошло, и беззаботно болтала ногами.
– Покачаешь меня ещё? – спросила Ада, когда Ева опустилась рядом с ней на корточки.
– Где ты была?
Ада ничего не ответила. Ева глубоко вздохнула и поднялась.
– Пойдём домой.
Оставшуюся часть пути до дома Еве пришлось вести Аду в коляске, потому что девочка очень устала и, забравшись, тут же заснула. Ева еле переставляла ноги, то и дело спотыкаясь, глаза слипались от усталости, но вот, наконец, показался нужный дом. Солнце уже село, и он посмотрел на Еву своими пустыми окнами с каким-то особым безразличием.
– Добрый вечер, Ева, – сказал Саваоф Теодорович, встретившись с девушкой на кухне. Вид у него был тоже уставший, но довольный.
– Добрый вечер, Саваоф Теодорович, – наверное, сейчас Ева выглядела не лучше, чем он. Саваоф Теодорович опустился на стул напротив.
– Как успехи? – спросил он, кивнув головой на Аду, которая сразу полезла к нему на руки.
– Теперь я понимаю, почему та женщина не справлялась.
– Что она уже успела натворить? – строгим голосом поинтересовался Саваоф Теодорович, сразу расплывшись в добродушной улыбке.
– Бегает… Очень быстро.
– Маленькие дети такие шустрые, – он взял Аду на руки и понес на второй этаж. – Нам, взрослым, за ними не всегда получается угнаться.
– Благодарю Вас, Ева, что смогли посидеть с ней сегодня, – сказал Саваоф Теодорович, когда вернулся в гостиную. – Наша договоренность еще в силе?
– О чем Вы? – непонимающе переспросила Ева.
– Вы согласны быть ее няней?
Повисла пауза. Тихо тикали часы, но в наступившей тишине их равномерный ритм звучал особенно громко. «Если Вы не согласитесь, – как будто говорил взгляд Саваофа Теодоровича, – тогда я совершенно случайно буду постоянно мерещиться Вам в толпе и, в конце концов, столкнусь с Вами на одной лестнице».
– Да. Я согласна.
– Что ж, я очень рад, – Саваоф Теодорович улыбнулся каким-то своим мыслям, словно от слов Евы зависели все остальные его планы. – Тогда жду Вас завтра.
Приняв это за приглашение уйти, Ева попрощалась с Саваофом Теодоровичем и уже скоро шла к метро по тёмной весенней улице. Саваоф Теодорович долго провожал девушку взглядом, даже тогда, когда, казалось бы, её уже нельзя было видеть. Вдруг в доме погас свет, и среди черноты только ярко засветился зеленый огонек.
Ева сидела в вагоне метро и, прикрыв глаза, слушала музыку, сквозь которую едва доносилось равномерное постукивание колес о рельсы. Чух-чух, чух-чух, чух-чух, чух-чух. Поезд выехал из тоннеля и теперь пересекал черную пропасть, отражающую в себе огни оживлённой набережной. Вдруг сквозь всю эту симфонию звуков Ева совершенно четко услышала душераздирающий крик и резко открыла глаза. Вагон был по-прежнему пуст: никого, кроме ещё пары человек. Прямо напротив Евы сидел человек, и, подняв глаза, девушка с ужасом узнала в нем силуэт из окна в доме напротив. При свете ламп он уже не выглядел столь по-мертвецки бледно, но страшные глаза навыкате, словно жившие на лице своей собственной жизнью, смотрели всё так же колюче и зло.
– Кто-то кричал. Вы слышали? – встревоженно спросила Ева, вытаскивая из ушей наушники. Пару мгновений он сканировал Еву нечитаемым взглядом, а после сухо ответил:
– Никто не кричал. Вам показалось.
Поезд снова въехал в тоннель, и свет на некоторое время погас, а когда включился, то человека уже не было.
День выдался очень насыщенным, а потому, когда квартира встретила ее бархатной темнотой, Ева почти сразу легла спать. У мозга уже не было сил анализировать всё произошедшее за сегодня, однако он отчаянно пытался это делать. Как только голова коснулась подушки, мысли превратились в бессвязные обрывки и совсем не хотели сплетаться в единое целое. Саваоф Теодорович…. Ада… Человек в окне… Где-то на грани между явью и сном Еве показалось, будто край кровати прогнулся под чьим-то весом. Реагировать на это сил уже не было; подтянув колени чуть ближе к груди, она наткнулась на преграду, что только подтвердило наличие в комнате постороннего человека.
– Ева, – сказал Саваоф Теодорович, – Ева. Трудно тебе придется, – девушке показалось, будто чья-то рука погладила ее по волосам. – Никто в этом мире не знает, что тебя ждёт, – Саваоф Теодорович тихо и раскатисто засмеялся, – кроме меня. Я знаю. Нас ждёт интересное времяпрепровождение.
Ева испуганно распахнула глаза. Комната была пуста.
Глава 2. Чёрная кошка в тёмной комнате
«Очень трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате,
особенно, если её там нет».
Радостное весеннее солнце, иногда выглядывающее из-за дымки облаков, напоминало спелое яблоко или персик, неуклюже плывущий по небу. Желтогрудые синицы звонко пели под окнами свою повторяющуюся из года в год песню, и казалось, будто всё в этом мире лениво просыпается от глубокого сна.
Ева стояла на автобусной остановке в прекрасном настроении и смотрела прямо в дымчатое небо, провожая долгим взглядом огромные серые перья, когда вдруг рядом с собой заметила, как она про себя окрестила, «человека в окне». Он вглядывался в даль между домами, словно видел там что-то особенное, и курил, при этом весь дым сносило ветром в сторону Евы. Закашлявшись, девушка отошла от него подальше, однако это не имело никакого результата: ветер словно нарочно поменял направление, и дым всё равно летел в её сторону. Ева зашла за остановку и некоторое время стояла там, пока снова не почувствовала едкий запах табака.
«Человек в окне» тоже решил отойти назад, видимо, чтобы не мешать другим людям, и тогда Ева вернулась обратно, тут же наткнувшись на курящего. Так продолжалось довольно долго, пока терпение Евы не закончилось.
– Простите, пожалуйста, – обратилась она к нему как можно дружелюбнее. Парень лениво повернул голову в ее сторону и молча окинул её взглядом с ног до головы. – Вы не могли бы курить в другом месте? Весь дым сносит в сторону остановки.
Человек странно посмотрел на нее и сухо ответил:
– Я не курю.
– Простите, пожалуйста… – снова пробормотала Ева, но тут подошел автобус, и человек исчез среди толпы пассажиров.
Еву одолевали сомнения. Давно забытые чувства вдруг ожили в ее груди, заметались в ней, как испуганные птицы в клетке, обвили своими стеблями сердце и проросли тонкими колосками в разуме. Страха не было, было что-то другое… Обречённость, что-ли? Она медленно обвела взглядом дома вокруг себя, остановку, людей, куда-то летящие по шоссе машины и саму дорогу, на которой можно было задохнуться. Всё такое знакомое вдруг показалось ей совершенно чужим, как будто она видела это в первый раз, и едкий, удушливый запах гари снова ударил в нос и заполнил легкие. Ева начала задыхаться.
В метро ей стало легче. Метро она вообще любила больше, чем любой другой вид транспорта, по крайней мере, в городе: ей нравились трамваи, поезда, электрички – всё то, что передвигалось по рельсам, уезжало куда-то далеко-далеко в неизведанную страну и забирало ее с собой. Почему-то именно тихий стук колёс о рельсы и быстро сменяющийся пейзаж за окном успокаивал её, убаюкивал покачиванием из стороны в сторону и дарил надежду на лучшее.
К Саваофу Теодоровичу Ева приехала вовремя. Мужчина сразу открыл ей дверь, словно знал о её приходе, хотя девушка даже не успела позвонить.