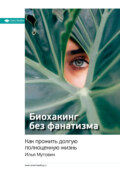Smart Reading
Как общаться с ребенком. Книга о том, как строить отношения с детьми и растить их счастливыми и успешными
Кризис 6–7 лет
Трехлетка не способен в ярости из-за маминого запрета помнить, что он любит маму, а от 6–7-летнего можно услышать: «Мама ругала меня, потому что сердилась, но она меня любит», поскольку он уже создал обобщенный образ родителя. В этом возрасте созревают участки мозга, ответственные за логическое мышление и способность делать то, что нужно (а не то, что хочется), обобщать, формировать и удерживать целостные образы (например, ребенок может отвечать на вопросы типа «Как называются вместе дуб, береза и тополь?»). Но только после 7–8 лет ребенок может, удерживая образ в памяти, верно прогнозировать реакцию взрослых на его поступки. Раньше бесполезно разговаривать с ним о том, как он должен вести себя завтра. Поговорить можно, но не стоит питать иллюзий, что он так и сделает.
В связи с физиологическими изменениями наступает очередной кризис сепарации. Малыш похож на яблоко, которое почти созрело и зарумянилось, но отделяться от ветки рано – нужно дозреть. Так как родитель теперь стоит перед внутренним взором, ребенок уже может выдерживать длительную разлуку с ним. От двух недель в летнем лагере он уже не получит невроз, как если бы это случилось в 5 лет. Нить привязанности становится длиннее – она уже перекрывает расстояние и время. Внутренний голос – наш голос – говорит ему в нужный момент: «А мама-то что говорила? Перед едой надо мыть руки!» и др. Мы можем заботиться о ребенке, не находясь поблизости, с помощью указаний и предостережений, данных заранее.
С 7 до 12
Ценность обучения
Семилетка начинает новый этап жизни – получение образования. Кто-то учится писать в прописях и умножать столбиком, кто-то – доить корову и выращивать овощи, но учатся все. Младшеклассника интересуют вещи, явления, причины и связи, правила и границы. Десятилетка многое начинает и бросает, но до момента, как наскучит, бывает очень увлечен. Например, может за один день научиться кататься на скейте, каждый раз падая и вставая, игнорируя ободранные коленки, или дойти до невообразимого уровня компьютерной игры. Учеба для ребенка – самодостаточная ценность. Он учится не для того, чтобы это когда-то применить, а чтобы понять, узнать, смочь. Игра еще остается важной частью жизни, но отходит на второй план: либо сливается с обучением, либо становится частью досуга.
Семья в это время воспринимается как тыл, арьергард. Родители нужны, чтобы о них не думать. Ребенок рад родителям, любит их, скучает, если долго не видит, но они больше не составляют главный интерес его жизни. Дети в этом возрасте редко доставляют беспокойство: десятилетки оптимистичны, жизнерадостны, полны идей, легки на подъем и хорошо справляются с неудачами и разочарованиями. Демографы даже подсчитали, что минимальная вероятность умереть – в 10 лет, поскольку на этот возраст приходится пик здоровья и энергии.
Потребность в наставнике
В отличие от животных, людям надо знать и уметь так много, что недостаточно перенять навыки родителей. Нужна учеба как особая деятельность и сопоставимые по значению с отношениями привязанности, дружбы или любви отношения «учитель – ученик». На смену родителям приходит наставник – тот, кто оценивает, требует преодоления барьеров через «не могу» и «не хочу», иногда говорит: «Ты можешь лучше», и это не разрушает отношения, потому что он – не родитель с безусловной любовью, его признание надо заслужить.
Настоящий наставник всегда немного супермен, пример для подражания. Он должен быть особенным, впечатляющим и восхищающим, уметь что-то, что мало кто умеет. Наставник помогает, подбадривает, объясняет, поддерживает. Он на стороне ученика – может быть строгим, но другим своих детей в обиду не даст. Ребенку нужно обожать наставника и стремиться стать таким же – с этой мечтой он идет в школу.
Кому-то везет, и он встречает яркую, сильную личность – любящего детей увлеченного учителя, как в советском фильме «Первоклассница». Но зачастую ребенок находит там уставшую учительницу, для которой работа – рутина. По мнению Людмилы Петрановской, виной тому – сложившаяся система обязательного образования. Если в архаичных культурах община могла выбрать для обучения детей самых лучших и харизматичных, то сейчас учитель – работник, нанятый за небольшую плату для составления планов уроков, ведения электронного дневника и в обязанности которого не входит доминантное проявление заботы к детской группе и каждому ученику.
Многое устроено так, чтобы люди с призванием и способностями к наставничеству в школе не задерживались. Однако без отношений «ученики – наставник» у детей не включится поведение следования, они не смогут эффективно учиться. Как правило, у учителей проседает либо один из двух компонентов – доминирование и забота, либо оба. Не справляясь с ролью наставника, учитель пытается вогнать в нее родителей: требует проверять уроки, вместе делать задания, вызывает в школу, ожидая, что родитель отругает ребенка за недостаточное рвение или плохое поведение. Порой выполнение уроков сопровождается криками, угрозами, ремнем. Неслучайно многие взрослые вспоминают начальную школу как ужасные годы, в которые они потеряли родителей (то есть отношения, привязанность к ним).
Стоит ли удивляться, что многим детям не нравится учеба, хотя их возраст приспособлен для этого как нельзя лучше? Неслучайно действие «Вина из одуванчиков» Рэя Брэдбери происходит в каникулы, а роман Даррелла «Моя семья и другие звери» заканчивается, когда Джерри отправляется в школу. Из школы хочется сбежать в Нарнию, Террабитию – куда угодно, где есть простор, приключения, сложные задачи, настоящие наставники – где можно действительно учиться.
Как хирург не станет оперировать своего ребенка, так и репетиторы избегают заниматься со своими детьми. Потому что на своих терпения не хватает. Встречаются родители, которые учат детей без ущерба отношениям, но этот дар жонглирования ролями есть не у всех. Члены семьи могут быть наставниками, но обычно лишь в плане решения личных задач и без жестких сроков освоения: так, в течение многих лет они могут научить ребенка готовить еду, мастерить что-то, водить машину.
Ребенку можно помогать с уроками, если он жалуется на скучную тему, а вы можете интересно о ней рассказать, или просит объяснить сложное, проверить ошибки «на всякий случай». Но как только вы начинаете единым фронтом со школой оценивать и контролировать ребенка, то словно топором бьете по привязанности. Нет контрольной, которая бы того стоила.
Еще один риск, связанный с неудовлетворенной потребностью современных детей в наставнике, – выбор негодного заменителя: кумира, старшего ребенка подоминантнее или педофила (увы, зачастую это не чужой дядя, приставший в подъезде, а псевдонаставник, начавший отношения с ребенком под видом интересного обучения чему-то необычному). Защитой от последнего может быть только доверительный контакт ребенка с родителями и сформированная уверенность в праве сказать «нет».
Мы не можем изменить систему образования, но важно помнить про потребность ребенка в наставнике. Необязательно, чтобы все учителя были гениями педагогики, – достаточно хотя бы одного. Кто-то из детей будет обожать брутального физрука, кто-то – остроумную математичку. Они будут толпиться около такого учителя после урока, читать по его предмету больше, помогать и участвовать в олимпиадах. А если не повезло найти наставника в школе, ищите его в кружке или спортивной секции.
Будьте заботливыми родителями. Это может значить написать за ребенка неинтересный ему реферат, из-за которого он не выспится или пропустит тренировку. Пожалеть, если получил двойку, узнать у учителя или у самого ребенка, что происходит, как помочь и что он может исправить сам. Если история отношений с вами научила ребенка ждать помощи, он сможет о ней попросить и признать, что не справляется. Но если он привык слышать: «Мне некогда, давай сам», есть вероятность, что он будет погружаться в неуспеваемость все глубже, а вы об этом не узнаете.
От 12 до 15
Стремительный рост
После сравнительно плавного развития в предыдущие годы ребенок растет как на дрожжах. Выискивая свое чадо в толпе сверстников, многие родители ловят себя на мысли, что представляли его на голову ниже. Разные части тела подростка развиваются в своем темпе – возникает временная дисгармония (например, детский голос у высокого парня), внутренние органы не успевают приспособиться к обслуживанию больших габаритов – отсюда утомляемость и сонливость. Гормоны, накатывая волнами, то вызывают возбуждение, то снижают умственную работоспособность, а настроение меняется без связи с внешними обстоятельствами.
«Почему я сижу и плачу, будто кто-то умер, хотя ничего не случилось? Почему на меня часто накатывает ярость, душит ненависть к близким, хотя на самом деле я их люблю?» – говорят подростки на приеме у психолога. Эмоции могут заставить считать жизнь конченой и ввиду «ужасного изъяна» во внешности, заметного порой лишь его обладателю.
Подросток похож на трехлетку: те же капризы и истерики, взрывы гнева, негативизм, отрицание всего без разбора, то же настойчивое «Я сам!» и другие сходства. Разница в том, что малыш исследует мир вещей и пространства, а подросток – мир отношений и чувств. При этом трехлетка мог в трудную минуту залезть к родителю на ручки, а подросток так уже не может.
С малышом просто мириться, а как после скандала с криком и хлопаньем дверью обнимать ощетиненное прыщавое и костлявое существо? Малыш, слезая с рук, «вылупляется» из младенческого слияния с мамой, а подросток должен «вылупиться» из семьи: ему, в отличие от ненадолго убегающего от мамы малыша, предстоит отделиться радикально. Отношения привязанности подходят к естественному завершению.
Свержение родителей с пьедестала
Ребенок в нежном возрасте идеализировал родителей. Теперь же он видит вместо самого сильного и справедливого на свете отца раздраженного, немолодого и, похоже, не очень умного человека. Вместо лучшей, самой красивой и доброй в мире мамы – уставшую, располневшую женщину, полную дурацких предрассудков.
Растерянные от происходящего родители срочно «берутся за воспитание», что окончательно портит отношения. Подросток приходит к выводу, что он и родители – разные люди, и вместе с тем страдает от одиночества, хочет возобновить контакт, но не знает как. Подросток болезненно переживает разлад с родителями, вплоть до попыток самоубийства, хотя отец с матерью бывают уверены, что «ему все равно».
На вопрос: «Как вы думаете, чего больше всего хотели бы от вас ваши дети-подростки?» – родители чаще всего отвечали психологам: «Чтобы дали денег и отстали». Среди подростков самый частый ответ был: «Чтобы родители проводили со мной больше времени».
Родителям тоже несладко. Особенно тяжело переживают свержение с пьедестала те, кто до этого «жил ради детей»: они обнаруживают себя в «пустом гнезде» – нет любимого дела и полноценного брака, а родительская роль уходит. Тяжело и тем, кто в целом не удовлетворен жизнью. Если при этом подростковый кризис совпадает с кризисом среднего возраста родителей, их ощущение бессмысленности и никчемности подкрепляет отпрыск: «Ну и что тебе дало это образование? Сидишь на работе, которую ненавидишь?», «Что вы лезете в мою личную жизнь? Своей займитесь, живете как кошка с собакой». Сложно приходится и безукоризненным родителям: подросток мучается от своего несовершенства, а родители так довольны собой и объективно хороши, что бесят его еще больше.
Главный совет родителям подростка – заниматься собой и своей жизнью. Тем более что ребенок теперь не требует постоянной опеки, появляется больше времени для реализации отложенных планов или обучения чему-то новому. Когда пройдет подростковый кризис, с ним можно будет общаться без напряжения и борьбы.
Двусмысленность положения подростка
Переходный возраст обостряется двусмысленностью положения подростка в обществе. Биологически зрелый человек вынужден долгие годы оставаться ребенком.
В архаичных культурах половозрелый человек мог заводить семью и принимать решения, касающиеся племени. Момент перехода во взрослые отмечался инициацией. После обряда подросток больше не обязан был слушаться родителей, а они – кормить его и отвечать за его поступки. В современной же европейской цивилизации, чтобы обеспечить себя, нужно долго учиться. Поскольку здесь инициация не проводится, мнения, когда происходит окончательный переход, расходятся. Одни считают рубежом достижение определенного возраста, другие – получение аттестата, диплома или первой зарплаты.
В двусмысленной ситуации каждый пытается трактовать ее в свою пользу. К примеру, подросток заявляет: «Я уже не ребенок!» – отстаивая право на самостоятельность и распоряжение своим временем. Когда же он просит денег на развлечения, то напоминает: «Я еще не взрослый».
Родителям приходится отвечать за то, за что они отвечать уже не могут. Например, их вызывают в школу, потому что сын-старшеклассник не выполняет домашние задания.
Что должны сделать родители, чтобы усатый Петя ростом 1 м 85 см делал уроки? Объяснить ему то, что он и так знает? Делать уроки с ним, даже если тот встанет и уйдет? Наказать, не дав сладкого или не взяв в цирк? Не разрешить смотреть мультики? Отшлепать? Все участники процесса (подросток, родители, школа) знают правду: Петя вырос, но только общество (в данном случае – школа) продолжает делать вид, что он маленький мальчик.
Ко всему прочему, все больше стран отодвигают порог совершеннолетия до 21 года и запрещают эксплуатацию детского труда, продлевая непонятное «промежуточное» время. Подросток, рвущийся к самостоятельности, вынужден сидеть у маминой юбки и просить у папы стольник на кино. Его могут отчитать, запретить гулять, чмокнуть в щеку без разрешения, что ненормально с точки зрения задач возраста. «Потому что не дело молодому льву оставаться во власти родителей», – пишет Людмила Петрановская. Животные-подростки держатся подальше от самцов, а человеческий детеныш вынужден зависеть от взрослых – стресс неизбежен.
В конфликтах с подрастающими детьми многое идет от того, что мы живем в такое время и по таким правилам. Поскольку мы вынуждены длить зависимость ребенка от нас (хоть он уже и не ребенок), стоит продлевать и хорошие стороны привязанности: иногда погладить по голове, принести его любимые конфеты, вместе погулять. Не нужно обрушивать на его голову тонну критики и опускаться до оскорблений, если он грубит. Атмосферу помогут сохранить доброжелательность, спокойствие, незлой юмор. При этом всегда, когда возможно, пусть он принимает решения и отвечает за себя. Например, при звонке из школы передавайте трубку подростку – пусть разбирается.
Потребность в принадлежности к группе
Примерно в 12 лет необходимым этапом взросления становится принадлежность к группе сверстников без взрослых или во главе с необычным взрослым, вроде коммуны Макаренко 1920-х годов или организаций, описанных в книгах «Тимур и его команда» и «Гвардия тревоги». Опыт «сектантства» подросткам жизненно необходим. Поскольку потребность всегда находит выход, появились скинхеды, готы, эмо, панки.
Общаясь со сверстниками из своей компании, подросток учится завоевывать авторитет, решать конфликты, понимать людей, переживать предательство, хранить верность, выбирать друзей и справляться с врагами. Даже в школу подростки ходят ради общения с одноклассниками. Успехи в учебе имеют для них смысл, если способствуют авторитету среди ровесников. Если же в коллективе быть отличником зазорно, ребенок может специально перестать делать уроки.
Роль белой вороны страшнее, чем действия учителей и родителей. В пределах общности подростки стремятся одинаково выглядеть, одно и то же любить и презирать. Подростковая группа жестока к инакомыслящим вроде героини повести Железникова «Чучело», поэтому тинейджеру нужна поддержка и жизненный опыт родителей, несмотря на изображаемое пренебрежение к их мнению. Если ситуация становится опасной и к этому моменту родители еще не разрушили отношения с ребенком, добиваясь контроля и послушания, подросток попросит у них помощи или совета.
Не стоит тратить усилия на развенчание авторитета лидера группы, к которой принадлежит подросток. Лучше подождать, когда возраст коллективизма сменится возрастом индивидуализации. Групповая идентичность – ступенька к обретению индивидуальности.
Потребность в индивидуализации
Цель кризиса идентичности (работы по перестройке души) – обрести самого себя. Подростка уже не удовлетворяют оценки со стороны, он хочет узнать, каков «на самом деле», поэтому часто говорит о себе: «Я такой человек, что…», «Я не люблю, когда так поступают», «Пусть они думают обо мне, что хотят, но я…» и др. Поглощенность собой делает подростка ранимым, почти любой повод становится предметом долгих мучительных размышлений, порой самоедства. В результате он кажется себе «не таким, как все» – это чувство может колебаться от осознания своей гениальности, особой миссии до ощущения полного ничтожества, уродства, ненормальности. Обыкновенность переживается как отрицательная характеристика.
Человек работает над уникальным орнаментом собственной идентичности всю жизнь. Подростковый кризис – лишь первый в череде множества будущих, когда мы задаем себе одни и те же вопросы: «Кто я? Какой я? Зачем живу?» Кто от этого отлынивает, рискует остаться вечным ребенком. Для этого в современном мире есть все условия: можно всю жизнь потреблять, развлекаться, делать, что велено, и считаться достойным членом общества. На кидалтов приятно смотреть, но работать с ними и растить детей вряд ли найдется много желающих.
Чувства подростка противоречивы: эйфория и любовь к живому, мечты об изменении мира сменяются «синдромом Лилу» – приступами тоски, горя, отчаяния и ужаса, которые испытала героиня фильма «Пятый элемент» перед тем, как впасть в кому от просмотра истории человечества. Подростку предстоит смириться с тем, что мир жесток и ничего не дается даром.
Несчастная любовь, предательство друга, провал экзамена, роль аутсайдера среди ровесников – мы не можем защитить свое дитя от этой боли. Роль родителей подростка похожа на роль ассистентов боксерского поединка. Иногда кажется, что пора самим набить морду негодяю, обижающему нашего мальчика/девочку, но в этом случае бой не засчитают. Потому что это ЕГО бой, а не наш. Остается в углу ринга готовить слова поддержки, чтобы придать бойцу сил. Все, дальше он отвечает за себя сам.